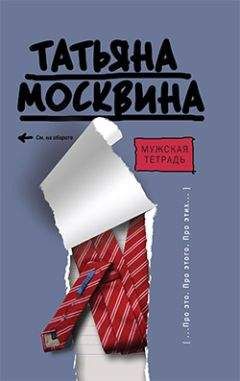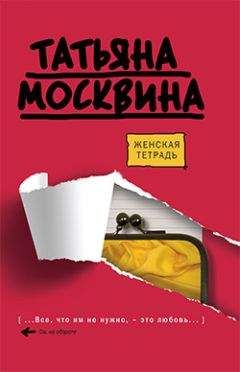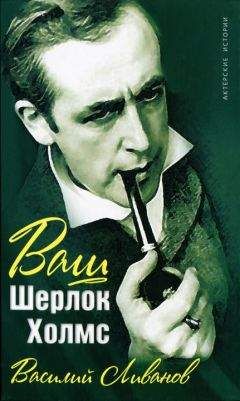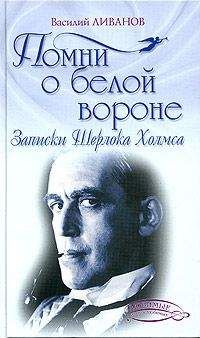Для чего понадобилась вся эта отлично организованная громада иллюзии? В которой, однако, есть крупный изъян: если для перевоплощения актера в англоговорящего юнкера требуется столь крутая степень имитации, то для высокохудожественного исполнения любовной истории необходимо было срочно данного актера в кого-нибудь влюбить. А как же? Английский будет без акцента, а чувства?..
Да полно, точно ли лишь художественный результат интересует Михалкова. Результат, он, конечно, нужен, но вот закончится сказка, снимется новый фильм, и начнутся трудовые будни – фестивали, прокат, телевидение, критики, чтоб их черти съели. Когда еще доведется, и доведется ли вообще командовать парадом, пусть иллюзорным.
Нельзя сказать, что война притягивает Михалкова больше, чем мир: война несет смерть, которой режиссер, в общем, избегает (в своем творчестве), но вот военные точно нравятся ему больше, чем штатские.
В миру царит какая-то трагикомическая путаница. Например, совершенно неизвестно, в чем смысл жизни. Творятся странные вещи. Люди позволяют себе целыми днями лежать на диване. Вообще делают массу глупостей. Тогда как смысл жизни доблестного военного кристально ясен: служить Отечеству. И нет тут никакого места для всякой там гамлетовщины и обломовщины.
Человечество до сих пор выработало только два архетипических образа жизни: это Афины и Спарта. Афины – дом, мир, частная жизнь, демократия, семейственность, философия, искусство. Спарта – война, деспотизм, государство, солдатское братство, походные песни, смерть за Отечество.
Михалков как гражданин, конечно, всей душой за «Афины», за дом, мир, частную жизнь, семейственность и искусство; с демократией, думаю, дело обстоит похуже, сдается, никак не может режиссер полюбить демократию. А дом в его творческом мире, когда и если появляется, несет образ тепла, света и уюта. С одной-единственной поправкой – на обреченность. М. Туровская, рассуждая о «Неоконченной пьесе для механического пианино», заметила, что главный герой фильма – дом Войницевых. «Все это еще есть, существует… но уже обречено на продажу, на слом, на снос, на исчезновение»[12].
На исчезновение обречен и дом из «Утомленных солнцем». А других домов в мире Михалкова и нет – не считать же таковыми китчевые клетушки «Родни» и «Без свидетелей», берлогу И.И. Обломова, трогательно жалкую коммуналку «Пяти вечеров» или мертвые и пустые пространства, где мыкается Анна из «Очей черных».
Один-единственный счастливый дом увидим мы у Михалкова – дом, чьи обитатели спят безмятежным вечным сном, – сон И.И. Обломова о детстве…
Афины, да, Афины. Но вот что-то от Афин так тревожно и печально. Все в них так сомнительно и хрупко, как в той съемочной группе из «Рабы любви», что с детской отвагой снимала свой никому не нужный фильм среди всеобщего хаоса.
То ли дело Спарта! Моряки, казаки, юнкера. За Веру, Царя и Отечество! Мир ясен, честен, прост, правдив, и чин чина почитает, главное дело.
Злые языки, утверждавшие, что имидж нынешнего курского губернатора генерала Руцкого был создан в свое время Михалковым, мне кажется, цепляли частичку правды. Видимо, грезился тут Михалкову какой-то фантастический, воображаемый вариант собственной судьбы…
Спарта, да, Спарта. Однако до сих пор Михалков снял только один чисто «спартанский» фильм («Свой среди чужих, чужой среди своих»). Теперь же искусно воссозданная на берегах Волги атмосфера спартанского юнкерского сообщества – только обрамление, как говорится антураж, для истории, которая лежит в основе будущего «Сибирского цирюльника». Поскольку оба героя «Цирюльника» – и русский юнкер, и его сын, американский солдат, – сражаются со всем иерархическим деспотическим миром за своего Моцарта и за свою любовь.
5
Любовь в творческом мире Михалкова достаточно редкий и довольно печальный гость.
До «Очей черных» любовная коллизия вообще не является в его картинах основной. Азартный военно-спортивный комплекс «Своего среди чужих…» честно игнорирует эту заклятую область бытия, куда всякий «друг человечества» глядит в тревоге и смущении. Любовная линия «Рабы любви» вполне условна, хоть и картинна. И.И. Обломову нечем ответить на буйство летней природы и порывы юной Ольги Ильинской… Чаще всего герои Михалкова вспоминают о том, что было и невозвратно ушло. Повторить, воскресить ничего нельзя.
Но что было-то? Да, собственно, ничего и не было. Ветка сирени, смятый платочек – как поет Шульженко. Берег реки, пароход, клятвы, томик Шекспира, чьи-то слезы, обещания, одно письмо или и того нет, туман, «очи черные». А потом девочка уехала. Или мальчик уехал. И когда они встретились вновь, тогда и начинается история – но это отнюдь не история любви, а история невозвратности и несбыточности.
Сам Михалков – у других режиссеров – охотно и весело игрывал разного сорта лихих завоевателей, быстро и ловко идущих к намеченной цели («Станционный смотритель», «Сибириада», «Жестокий романс», да и «Вокзал для двоих»), чаще всего окрашивая их далеко не теплой иронией. Но внутрь собственных фильмов такого рода всадников не допустил ни разу.
Сам играл победителей, удачливых и аморальных (пусть только отчасти), – а в герои, повинуясь художественной интуиции, выводил нежных, грустных, застенчивых, неудачливых, вплоть до рокового допуска в свой творческий мир – и по собственной воле – ангела-истребителя в исполнении Олега Меньшикова.
Вся середина 80-х годов проходит у Михалкова в некоей творческой завороженности этим актером, из которой тем не менее практически почти ничего не выходит.
Казалось бы, вот он, идеальный герой отечественного кинематографа, о большем и мечтать не приходится. Вместе с Александром Адабашьяном Михалков пишет сценарий фильма «Мой любимый клоун», где Меньшиков самоотверженно создает убедительный образ положительно прекрасного советского артиста, лучшего друга сирот, защитника униженных и оскорбленных. Тогда же пишется с Рустамом Ибрагимбековым первый вариант «Сибирского цирюльника», где Меньшикову тоже предстоит сотворить положительно прекрасного юнкера, да еще и в довольно разработанной на этот раз любовной истории…
Но ничего не происходит, а происходят много лет спустя «Утомленные солнцем».
Нежный и грустный мальчик, когда-то уехавший куда-то, которому положено тихо перебирать струны и печалиться о несбывшемся, о любви, которая потеряна, о времени, когда «Мне тридцать пять лет… А я ничтожество!» (так кричит Платонов в «Неоконченной пьесе…»), о песне, которая не будет спета, – этот мальчик уничтожает не только Дом и Отца, он производит некие крупные экзистенциальные крушения во всем творимом Михалковым мире. То есть это сам Михалков, разумеется, их и производит, его призвав, материализовав.
Михалков любит просторы – поля, степи; но на такие, как в «Утомленных солнцем», далеко не декоративные просторы он еще никогда не выбирался: под сомнением всякая камерность, всякая ситуация; все обнаруживает свою зыбкую, миражную, призрачную основу, все родственные связи и социальные зависимости – все будет уничтожено. В этом и есть справедливость. Эта справедливость «жалкому, земному» уму непонятна и неведома – иначе и жить невозможно, – но она существует. Бытию, основанному на лжи и иллюзии, должен прийти конец. В жизнелюбивый и жизнеутверждающий мир Михалкова вошла смерть.
Ее не было никогда – как и любовь, она содержалась где-то там, вдали, после фильма… или была жанровой необходимостью, как клюквенный сок в балаганчике…
В последней новелле своего последнего фильма «Три истории» Кира Муратова, режиссер, абсолютно противоположный Никите Михалкову, делает чуть ли не прямое лирическое объяснение зрителю собственного мироощущения. Жестоко и ясно скажет она, что старость отвратительна, а смерть неизбежна; что вечно юная и не знающая ни о какой морали девочка-жизнь когда-нибудь навсегда убежит от нас…
К чему это я? К тому, что обращение к полусказочному миру «Сибирского цирюльника» десять лет назад, после или вместо «Очей черных», было бы закономерным.
Но возвращение к нему сейчас достаточно удивительно. Кажется, герой Великой иллюзии намерен вновь совсем уже решительным образом сразиться с действительностью.
Появление в михалковском иллюзионе Артема Михалкова (он играет в «Цирюльнике») понятно – таким образом почти вся семья реальная становится коллективным персонажем киномира. Но заставить Меньшикова вернуться назад и доиграть то, что он в своем время не сыграл, – классический вызов реальному времени.
Никаких рациональных объяснений этому я не вижу. Кроме одного: если актеру Меньшикову опять восемнадцать, то Михалкову – тридцать три.
6
Счастье – это преодоление себя.
Н. Михалков [13]
Дерзкое единоборство со временем, затеянное Н.С. Михалковым, кажется, достигнет в «Цирюльнике» кульминационной точки.