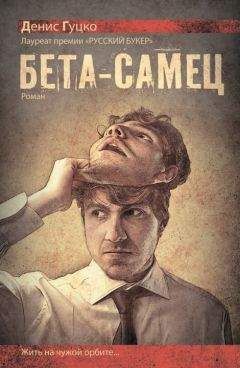Когда Митя говорил ей, что он чувствует себя чужим в России, и что он другой, «не российский русский» — она слушала, но думала, что он играет с самим собой в какую-то затейливую игру. Может быть, немного чудит, но безобидно. Она решила: пусть, значит, в этой игре он находит что-то, ему необходимое. В конце концов, и в самом деле оторвался от привычного, с детства знакомого мира… Но потом Светлана Ивановна переехала насовсем, продав свою квартиру по цене «Запорожца», они стали жить вместе. Очень скоро Марина с отчаяньем заметила, что всё, о чём говорил Митя — правда. В присутствии матери эти зёрнышки быстро взошли, он и впрямь стал совершенно «не таким», непонятным далёким иностранцем, живущим здесь и сейчас как-то не насовсем, как-то проездом. Ни в чём он не мог сориентироваться до конца. Ни к чему у него не было настоящей тяги — будто завтра всё равно уезжать. Всё, что происходило с окружающими, он отрицал ещё острей, чем она. Он называл это Вавилоном. И будто в отместку кому-то собирался просто стоять на берегу хаоса и, скрестив руки на груди, наблюдать. Только книги. Только от книг его было не оторвать. В университетскую библиотеку, как назло, завезли пару коробок книг, ранее неразрешённых. Перечитал их все. Даже в тот убийственный день, когда Ваня сказал: «Мам, а можно сегодня не есть овсянку?», — он ушёл в свою лабораторию с книгой. Откроет Бунина и спрячется в тёмных его аллеях. И вздыхает счастливо: «Вот, вот оно, русское». Это оскорбляло её. Не Митина беспомощность. Её-то Марина могла простить. Она понимала, что Митя хрупок, и не ставила ему этого в вину. Но его сплин и боязнь замараться этой новой «эсэнговой» жизнью — оскорбляли. Все вокруг спасались, как могли, искали работу, искали деньги, шарили по самым тёмным углам. Пусть Марина не верила в завтрашний день этих всех — но за свой сегодняшний день, нужно отдать им должное, они сражались отчаянно. Даже Трифонов открыл кооператив по поставке пиломатериалов. Но Митю туда не позвал. Мите он по-прежнему предпочитал рассказывать про цену его образования и растущий спрос на квалифицированных экологов. Митя пробовал куда-нибудь себя приспособить, но было видно, что делает он это с холодком, только потому что надо, и хватало его ненадолго. Ни в одной из предпринятых затей он не пошёл дальше первого шага. Наверное, чтобы доказать себе и ему, что ситуация не безнадёжна, она и ездит на рынок весь этот месяц.
Автобус дотелепался до конечной и с отчаянным выдохом распахнул сразу все двери: «выметайтесь». Места перед входом были заняты. На её обычном месте стояла тётка с купальниками. Махнула ей как доброй знакомой: иди сюда.
— С костюмом? — спросила она.
— С ним.
Тётка вздохнула и сказала:
— За полмиллиона отдашь?
Марина удивлённо на неё посмотрела. Она просила уступить двести тысяч, немалые деньги. Редко кто из приценивавшихся пытался сбить больше, чем пять-десять тысяч. Тётка долго и азартно торговалась, позабыв про свои купальники, говорила, что с самой молодости мечтала иметь такой костюмчик. Даже училась вязать, но руки не из того места. Но Марина, с чисто спортивным упрямством, не уступала.
Они сошлись на шестистах тысячах, тётка вынула из-под юбки пачку, видимо, заранее подготовленную и, пока та пересчитывала деньги, прикрыла Марину от посторонних глаз. Это было совершенно нелишним. Помимо профессиональных карманников, которых всех продавцы знали в лицо и которые занимались больше покупателями, на толчке промышляли и залётные любители, пьяные для храбрости, и самые страшные хищники на «толчке», цыганки. Последние были особенно опасны.
Поодаль от толчка, в немытых иномарках, сидели увешанные золотом цыгане — охраняли своих. И даже крупные спортивные парни из вагончика с надписью «администрация» не решались выставить их с рынка. Цыганки придумали простой — и жестокий — способ зарабатывать здесь деньги. Они стояли возле женского туалета, ожидая, пока туда кто-нибудь войдёт, желательно в одиночестве. Если следом за посетительницей в туалет спешила следующая, её останавливали и говорили, что все места в туалете заняты: видишь, сами стоим, ждём? В туалете женщину, приставив к шее нож, без церемоний обыскивали, отбирали деньги и золото, и спокойно уходили — пока рыдающую жертву на выходе задерживала всё та же группа прикрытия. Однажды Марина видела, как цыганки возле туалета с радостными криками и объятиями здоровались с другой цыганкой — наверное, давно не виденной общей знакомой. Перездоровались, затеялся разговор. По интонациям и жестам можно было легко догадаться, о чём они говорят. Как дела, да чем занимаетесь? В клокотанье цыганской речи постоянно слышалось — громко и хвастливо — слово «рэкет». Рэкетом, мол, занимаемся. Новое дело. Прибыльное. Смотри, как всё налажено.
После того, как Марина, немного ошалевшая от радости, пересчитала и спрятала деньги, тётка насела на неё с новым требованием:
— Купи у меня купальник. Тебе же нравятся? Уступлю тебе хорошо.
Удар застал Марину врасплох.
— Погоды ещё будут долго. Может, выедешь куда. А на следующий сезон — страшно подумать, сколько они будут стоить! Вот этот, вот тебе пошёл бы, или этот.
Марина смотрела на устроенную перед её глазами карусель бретелек, чашечек, бикини — и снова думала запретное: как бы Кристоф смотрел на неё в этом купальнике, как улыбался бы, как они выглядели бы, шоколадные на жёлтом песке, как кто-нибудь поодаль говорил бы: «какая красивая пара»… Но она взяла себя в руки, резко попрощалась и пошла к остановке.
Она вспомнила, что никогда, даже когда у них с Митей всё только расцветало, она не думала с таким наслаждением, как бы они смотрелись вместе, не чувствовала этого размаха перед полётом, только лишь представив себя возле него. С Митей всё было иначе. Нет, она не выбирала его с холодной как у Дзержинского головой. Что-то заманчиво мерцало в душе, Марина решила: да, оно, — и пошла на эти огни. Но теперь вдруг такими жалкими и бледными казались те переливы. Да и где они?
Кристоф Урсус оценил бы её вкус… Она обругала себя дурой, напомнила себе о сыне и прибавила шагу, будто пыталась оторваться от слежки.
— Хватит!
На повороте, остановившись перед проезжающим со звоном и лязганьем трамваем, Марина заметила, что за ней следят. Старая толстая цыганка с рынка подотстала, но две совсем ещё маленькие, лет десяти, девочки, стояли неподалеку, оглядываясь то на неё, то на догоняющую их с пыхтением старуху. Марина вспомнила, что ей предстоит спускаться в тёмный подземный переход, и по спине пробежали мурашки. Бежать? Но она вдруг подумала, что это может совершенно катастрофически сказаться на её хлипкой обуви. Она свернула вправо, на оживлённую улицу, и неожиданно для себя зашла в парикмахерскую.
— Проходите, пожалуйста, — пригласили её. — Слушаем Вас.
— Я бы постриглась, покороче, — сказала она, садясь в кресло. — И покрасила бы волосы.
— В какой цвет?
— Блондинкой. Радикальной блондинкой, — и подумала: «Интересно, что он скажет?».
Да не думай же ты об этом! Что из этого получится?! Какой у всего этого исход?! Митя, Ваня. Ваня, Митя. Очаг… Но стоило ему появиться на горизонте, как тут же тускнел очаг, и любые спасительные мысли о сыне становились какими-то посторонними, застывали как в детской игре «замри-отомри» — и она смотрела на них, не веря, что может делать это так отстранённо. Не веря, что она такая, что это она — Марина пыталась и на себя взглянуть со стороны. И всё кружилось, выходило из-под контроля. В этой кутерьме только одно оставалось отчётливо и ясно: она хочет быть с ним. Она приходила на факультет за полчаса до начала рабочего дня и бесцельно ходила вдоль стеллажей с микроскопами, изогнувшими свои нержавеющие шеи, переставляла колбы, по которым разливалось раскрашенное строго по науке, в семь цветов, утреннее солнце.
…Она швырнула ему под ноги лоток с колбами и сказала, чтобы он никогда не смел заговаривать с ней об этом. На геофаке с ней заговаривали и не о таком, но Марина никогда не била колбы. Кристоф стоял, выставил ладони над головой: «Surrender, сдаюсь», — и улыбался. Его улыбка, ослепительная как прожектор, имела над ней власть. Её всегда притягивали такие улыбки — и зубы, достойные небожителей. Раньше она восхищалась ими в кино. Она поняла: с такими зубами человек выглядит надёжным и честным: видишь, я открыт, во мне нет ничего, чего бы я стеснялся, даже во рту. Как бы она ни злилась на Кристофа, его улыбка действовала безотказно.
На звук разлетевшегося стекла вошёл Си-Си, бессменный ректор факультета. Посмотрел на профессора Урсуса, на осколки, шевельнул стриженными бровями.
— Извинитье, я всо уберу.
— Да убрать-то есть, кому, — ректор посмотрел на Марину. — Дак колб не напасёшься.
Марина оставалась неподвижна. Ректор постоял некоторое время, глядя с интересом, как куратор проекта заметает стекло на совок, пока лаборантка смотрит в микроскоп, и ушёл задумчивый.