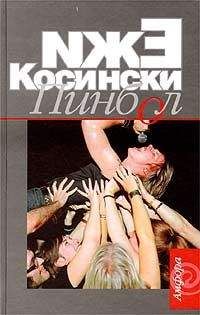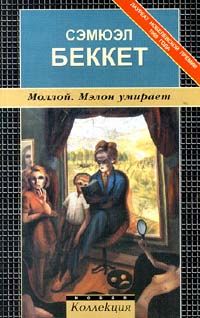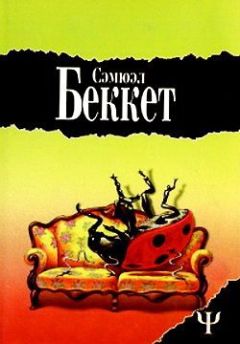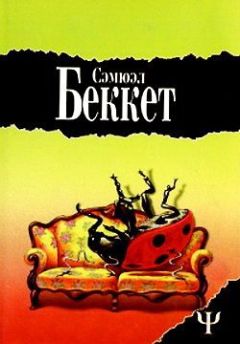– Тогда… почему ты… почему не…– она подбирала слова, – даже ни разу не попросил остаться с тобой? Ты ведь знаешь, что чувствую я! – вспыхнула она.
Он вернулся к роялю и посмотрел ей в глаза.
– Просто я боялся, что однажды, обретя твердость и уверенность в себе, ты оглянешься и подумаешь, что я воспользовался твоим испугом, слабостью и зависимостью от моей помощи.
Он помолчал, а потом добавил:
– Пока я не твой любовник, ты знаешь, что я люблю тебя далеко не за одну твою красоту.
Она встала, оглянулась, безмятежным движением вынула из волос заколку, так что пышная, сверкающая грива упала на плечи. Затем, спиной к Домострою, неторопливо, словно исполняя длинный и послушный музыкальный пассаж, она расстегнула блузку, распустила молнию сбоку на юбке, сняла и то, и другое и положила на крышку рояля. Сбросила туфли, трусики и повернулась к нему.
Он ждал, что она подойдет к нему, но она медлила. Нагая, омываемая лучами света, струящимися с ее плеч, грудей, бедер, она смахнула одежду с крышки, села за рояль, открыла его и начала играть. Исступленно лирические звуки Скерцо си минор звучали все сильнее и сильнее, пока весь гигантский зал не проникся «жалью», этим непостижимым чувством безысходной славянской тоски.
Глядя на нее и слушая ее игру, Домострой думал о том, как в конце концов произойдет то, чего он ждет. Казалось, все теперь зависело лишь от его воли, однако он заметил, что прилагает усилия, чтобы отсрочить момент близости, боясь, что, когда это наступит, он может оказаться несостоятельным или, подобно мужчинам, о которых она рассказывала, пассивным, жаждущим наслаждения, но неспособным взять инициативу на себя. Взгляд его блуждал по телу Донны, потом перекинулся на ее тонкие кисти и гибкие запястья, он наблюдал за ее пальцами, вдруг с легкостью растянувшимися на треть клавиатуры, столь мощно, быстро и живо, будто они действуют независимо от рук, движимые той же силой, что и дыхание.
Домострой знал, что исполнитель, дабы проникнуться духом мелодии и добиться необходимой благозвучию прозрачности, должен быть совершенно умиротворен, согласуя собственный физический ритм с течением музыки. Малейшее напряжение влияет на кисти, запястья и плечи музыканта и затрудняет исполнение. И сейчас он слышал, как все более напряженной и неуверенной в себе становится Донна.
Он испытывал возбуждение, однако заставил себя полностью сосредоточиться на ее игре, замечая, что все в ней: сгорбившиеся плечи, напряженная шея, скованные движения ног, беззвучные вздохи, даже то, как она поднимает руку с колена на клавиши, – выдает тревогу, чувство обреченности, поражение, признание собственной несостоятельности. В считанные минуты музыка ее стала задыхаться, как и она сама. Игра ее стала вялой, звуки, что прежде изливались из самого сердца, лишились силы, словно исходили теперь лишь из нотного листка над клавиатурой, столь же обособленные от пианистки, как она сама от инструмента, на котором играла.
Если бы она поехала в Варшаву прямо сейчас, подумал Домострой, то внутренний беспорядок лишил бы ее малейшего шанса на победу или хотя бы достойного места в конкурсе. Он знал, что ни количество часов, проведенных за роялем, ни физические или умственные усилия сами по себе не способны устранить столь глубоко засевшую тревогу или освободить от страха перед сценой на время, достаточное для победы.
Он рванулся к ней, он теперь тоже был пианистом, тянулся к клавишам, стремясь к тому, что готов был совершить, и одновременно боялся испортить неверным касанием самый первый такт, из которого вытекает вся пьеса. Он должен был постараться сделать то, чего пытается добиться перед концертом каждый пианист, – отдаться порыву, исходящему более не из пальцев, запястий, рук или плеч, но из самого сокровенного, что есть у него, – из его души.
Он застыл всего лишь в нескольких дюймах от нее, но она продолжала играть, словно не замечала его присутствия. И хотя он стоял так близко, что чувствовал тепло и запах ее тела, ему казалось, что он удалился от самого себя и, коснувшись ее, вернется в собственную действительность, которой, если он этого не сделает, будет теперь так страшно противостоять в одиночку.
Кончиками пальцев он коснулся ее шеи. Дрожь пробежала по ее телу, но она продолжала играть. Плоть ее напряглась в ответ на его прикосновение, но, когда он нажал сильнее, как будто поддалась, и он не понимал, от нее ли исходило изначальное сопротивление, или то была погрешность его собственного осязания, неспособного оценить, какое напряжение ладоней, рук и плеч необходимо для ласки. Он скользнул руками по лопаткам Донны – ее плечи и спина тоже чуть напряглись в ответ. Она не прекращала игру, и его настойчивость возрастала, наконец он почувствовал, как растворяется в нем напряжение, исчезает подавленность, уступая уверенности, что теперь лишь его одежда остается помехой их близости. Сейчас, когда сознание его очистилось, он, пальцами одной руки продолжая с упоением гладить ее шею, плечи, спину, другой раздевался сам.
Обнажившись, он прижался животом и грудью к ее спине, и она, затрепетав, подалась ему навстречу, и руки ее оторвались от клавиш. Она перестала играть и, словно не понимая, что делать теперь с руками, повернулась к нему. Он взял ее за плечи и крепко обнял, словно опасаясь, что она может упасть, а внутри его росла всепоглощающая жажда обладания этой женщиной. Лишь одно теперь имело значение: наполнить ее своим существованием, слиться с ней воедино.
Он осторожно повернул ее лицом к роялю, она положила руки на клавиши и тут же начала играть «Чары», печальную, сладостную песню Шопена. Десятитактовая фраза строфической мелодии воскресила в памяти слова, которые он пел мальчишкой, слушая, как мать репетирует перед концертом в Варшаве:
Когда пою с ней, трепещу;
А без нее печаль безмерна;
Я радоваться так хочу
И не могу!
И нет сомненья.
Что это чары!
Припав к ее плечу, он коснулся ее спины кончиком отвердевшего пениса, словно настаивая на еще большей близости, целовал ее шею, подбородок, ухо, прижимался щекой к ее волосам.
Он склонился над ней, касаясь локтями плеч, и легчайшими прикосновениями стал ласкать ее груди, подушечки пальцев скользили по соскам, заставляя их твердеть и заостряться, по ареолам вокруг сосков, затем опустились ниже, к пупку, затем обратно и снова вниз. Одной рукой он теперь уже крепко сжимал ей бедро, а ладонь другой легла на лоно, и кончики пальцев опустились еще ниже, поглаживая и проникая в ее плоть.
Он прижался грудью к ее спине, прильнул щекой к ее щеке, гладил ее бедра, а она продолжала играть, но уже была готова отдаться порыву страсти.
И когда руки девушки, казалось, перестали ее слушаться и тело бессильно склонилось над клавишами. Донна начала играть «С глаз долой», одну из экспрессивных двустрофных песен Шопена на стихи Адама Мицкевича, любимую ими обоими.
И светлым днем,
И в час ночной,
Повсюду, где играл с тобой
И плакал я с тобой,
Везде останусь я навек
С тобой,
Ибо оставил здесь
Я часть своей души.
Не позволяя ей прервать игру, он сел рядом. Нежно приподняв девушку, он опустил ее себе на бедра, вошел в нее, наполняя ее плоть своею, удерживая грудью ее податливое тело, ритмично с нею покачиваясь, плавно входя и выходя из нее, притягивая ее все крепче. Она содрогнулась и застонала. Плавное движение ее пальцев нарушилось, руки упали вдоль тела.
Он снова приподнял Донну, оттолкнул табурет и опустил ее на пол. Постелью им служила одежда, публикой – пустые кресла танцевального зала. Донна приникла к нему нежно и страстно, жертвенно и требовательно.
В аэропорт они поехали на его машине, и два больших чемодана Донны – один целиком заполненный вечерними платьями для выступлений и официальных обедов в Варшаве – заняли оба задних сиденья. Она сидела рядом с Домостроем, так что он держал руль одной рукой, а другой обнимал ее за плечи, то теребя ей волосы, то прикасаясь к шее. Она без слов сняла его руку с плеч и сжала между бедрами. Дыхание ее участилось, грудь вздымалась и опускалась, она придвинулась к нему и еще крепче стиснула его ладонь, согревая ее жаром своей плоти. Потом она положила голову ему на плечо, они встретились глазами, и из ее сухих, приоткрытых губ вылетел слабый стон.
Хотя она просила его поехать с ней в Варшаву, а у него была возможность пуститься в такое путешествие на деньги, сэкономленные от платежей Андреа, он решил, что для Донны важно оказаться в Варшаве без его надзирающего ока и уха, «один на один» с публикой, которую ей предстоит покорить.
Она сказала, что в зале отправления ее ждут мать и четыре младшие сестры, а еще там должны быть газетчики, чтобы взять у нее интервью. Домострой убедил ее отправиться к ним в одиночестве. В аэропорту он остановился у поребрика, вышел из машины, открыл дверцу для Донны, препоручил ее багаж носильщику и вновь скользнул за руль при виде приближающихся к ней родственников и репортеров со вспыхивающими камерами. Падкая до новизны пресса нашла в Донне Даунз идеальный образ для освещения знаменитого шопеновского конкурса.