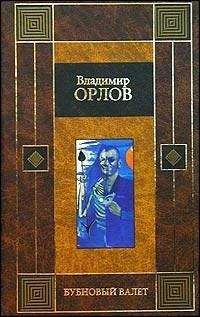– Неужели и К. В. не брезгует составительством? – удивился я.
– А что же он, маленький, что ли? Он и речи печет, и записки в Политбюро ЦК, и тезисы, и приветствия. Эти тексты для него важнее, нежели очерки. Если его не приглашают, он расстраивается, ему подвохи и недоверия мерещатся, выпад из фавора. С его умением вертеть слова он уже мог стать и жрецом. Но это ему не надо. Его к другому поприщу готовят. Там он заказчиком сможет стать. А жрецы, пророки и исполнители будут у него в послушании.
Вести разговор о К. В. или тем более обсуждать его я не пожелал. Вышло бы нехорошо. Да и слушать памфлеты и раздражения Глеба Аскольдовича мне надоело. Порой я был готов оспорить те или иные слова Ахметьева. В особенности когда они задевали мои взгляды или симпатии. Неприятно было мне, например, бесцеремонно брошенное Глебом – о благодетельно-ложной религии, о чучеле шушенского дачника и пр. Но в полемику с Глебом я уже не хотел вступать. Он пришел ко мне выговориться. Выйдет ему облегчение, ну и замечательно! А я все равно останусь при своих представлениях о ходе истории в двадцатом столетии и ее персонажах. И все же нечто в словах Ахметьева раздразнило меня своей несправедливостью (или не правдой), я не выдержал и ляпнул:
– Погоди, Глеб! Но чем же ты лучше К. В. с его потиранием рук: “Какая изящная формулировочка!”? Я же видел, как ты в пляс был готов пойти или слезу умиления пустить, сочинив там что-то за Семена Михайловича Буденного. В его якобы воспоминаниях…
Глеб Аскольдович на мгновение удивился чему-то, взглянул на меня, но слов о Семене Михайловиче он будто и не услышал, а принялся разъяснять, чем он отличается от К. В. и произведенных в аристократы духа. Основополагающие тексты для них именно священное писание, относиться к коему можно лишь с благоговением. Для него же, Глеба Аскольдовича, – священное писание в других книгах. Каких, ты знаешь. Священное же писание аристократов духа, то бишь Учение основоположников, для него – дерьмо, лепешка конского навоза, но от нее (лепешки) хоть есть польза, а от того дерьма – лишь одни вони, стоны и вопли. Он, в отличие от благочестивых аристократов духа, по отношению к Учению – не благостен, не раболепен и не намерен ползать вокруг него, воздевая к небу в уродливых звездах руки. Он рядом с этим дерьмом свободен, волен в своих издевках над ним, а оттого, что привык к нему и его вони, волен и не натягивать на голову противогаз или просто утаиваться от него в утехах и страхе, это облегчает ему легко-воздушное общение с дерьмом. А надо отогнать от него благовония, снять с него печати и сорвать завесы.
– Раскрытие сокрытого завесой, – вспомнив давнее, пробормотал я.
– Что-что? – удивился Ахметьев.
– Да так… – сказал я. – Это без всякой связи… Ради курсовой, по теме ее, на четвертом, пришлось читать сочинение мусульманского философа одиннадцатого века, затем – святого, Ал-Худжири, Баба Сагиба. “Раскрытие сокрытого завесой”. Вышло в Ленинграде в двадцать шестом под редакцией профессора Жуковского…
Зачем потребовалось называть мне, где и когда книжка вышла и кто ее редактировал, не знаю. Может, ради того, чтобы напомнить Ахметьеву, что он с кем-то состоит в беседе? Мне стало казаться, что Глеб Аскольдович, при всем том, что мы с ним хлебаем коньяк и тычем вилками в бычков, выговаривается не мне, а еще кому-то, мне неведомому.
– Однако отгонять от дерьма благовония, – продолжил Глеб Аскольдович говорить мне (не мне), – снимать печати, срывать завесы – дело безнадежное (Никита снял одну печать вынужденно, а ко скольким другим печатям шагу не дадут сделать). Доступнее усиливать вони дерьма, чтобы они дошли до каждого, а в завесах следует проделывать хотя бы смотровые дыры.
– Ну и как, получается? – спросил я.
– Иногда получается, – опять же глядя и не на меня (я даже обернулся, не устроился ли за моей спиной еще кто? Скажем, некий господин в котелке и потертых брючках? Нет, не устроился, по крайней мере мне он был недоступен в ощущении) и явно не почувствовав усмешки в моем вопросе, сказал Ахметьев. – Иногда получается. Иногда нет. Но пока все по мелочам… Пока…
– Значит, ты, хотя и находишься с аристократами духа и небожителями, – сказал я, не принимая во внимание это его “пока”, – по разную сторону дерьма, для тебя – дерьма, существуешь с ними все же на равных, получается – иногда и по мелочам. Мелочевка – из благочестивых ласк. И мелочевка – в комариных проколах завесы.
Естественно, согласиться с моими колкостями Глеб Аскольдович никак не мог. На каких равных! С кем! Боже упаси! В своей свободе он среди них, занятых лишь сохранением и передачей мистического предания (а как же не мистического, был замечен мой робкий протест, если у них и перед чучелами, перед их гробницами заведено поклонение толп, с обрядами, поминальными церемониями, как же не мистического?), был и есть, как Ботвинник вблизи юных шахматистов из районного дома пионеров, пригласивших гроссмейстера на сеанс одновременной игры. Сравнение, конечно, не слишком удачное, но что-то в нем есть… Да, он тоже игрок, но его игра – иная, он согласен на мелочи, коли все другое нереально и толку не даст, но мелочи его могут выйти злыми и ощутимыми, а уж дыры в завесах своими шутками он иногда проделывает доступные для умных глаз…
– С этими-то либеральничающими хранителями Учения шутки и ухищрения возможны, – сказал Ахметьев, – а вот с дьячком Михаилом Андреевичем – ни-ни! – и погрозил пальцем.
Я снова обернулся, страшась обнаружить за собой господина в котелке и потертых брючках.
Провести Михаила Андреевича, по наблюдениям Глеба, какими-либо теоретическими или словесными уловками невозможно. Все прочие Титаны, хоть – с усердием или по привычке – и служили Идее и Учению при четвертом уже партийном Государе, в силу превратностей судеб и неудобств добывания знаний считали себя недостаточно академиками, а Михаил Андреевич, по их представлениям, родился в академическом белье. Они его не любят, он для них – оживший птеродактиль, но без него нельзя. На самом деле он – ключарь, он – казначей Цитат, в его ведоме – кладезь истин, а в руках, стало быть, меч Кладенец, но не булатный, а бумажный, однако этот будет пострашнее булатного, сейчас же со свистом снесет голову, в коей вышел заворот мыслей. В его ризнице образцово верно уложены краеугольные камни Учения, он им хозяин. Он, будто скупой рыцарь Александра Сергеевича, ласкает свои сокровища, пылинки с них сдувает, а то и приходит к ним с веником и воском. В подземельях под его присмотром, а значит, ему в услужении, в стеклянных раках – мощи некогда горлопанивших “Весь мир насилья мы разрушим” святых. Михаила Андреевича не любят, но побаиваются, особенно те крепыши, что в державных попыхах запамятывают, какие такие три источника и составные части марксизма-ленинизма, как бы в случае неудовольствия Михаил Андреевич не пригвоздил их либо к ревизионизму, либо к оппортунизму. Сам-то Михаил Андреевич ни о чем не запамятывает, ни о чем не забывает. И не прощает ехидств в свой адрес и уж тем более обид. И его однажды чрезвычайно унизили. Никита, зная, что Михаил Андреевич – сталинист, то ли из озорства, то ли по известной еще со времен Нечаева привычке связать подвижника мокрым делом именно Михаилу Андреевичу поручил исполнить гласный уже доклад о культе личности. И он его произнес. А кто создавал текст? Да все те же наши аристократы духа. Это он еще сквозь пальцы смотрит на их забавы с заменой дефиса в словосочетании на якобы вольно-дерзкое “и”. Ужо он этим смельчакам, поиздевавшимся над ним, подсовывая ему слова народного развенчания кумира, еще покажет! Еще сам поиздевается над ними. Да и как! Он им и то, что они числят его “стоптанным валенком”, не простит. Они-то – ладно. Михаил Андреевич еще над страной нашей распятой мощами Иосифа Виссарионовича погремит как колотушкой. К этому все идет!..
– Ты будто бы стоптанному валенку ораторию выпеваешь, – сказал я. – Он что – достоин твоего песнопения?
– Я! Выпеваю! – вскричал Ахметьев. – Ораторию! Если только на манер: “От края до края по горным вершинам, где вольный орел совершает полет…” Как там дальше-то?
– “О Сталине, мудром, простом и любимом, прекрасную песню слагает народ”…
– Что ты городишь! Как это – по горным вершинам слагает… Ну ладно. Именно такого песнопения и достоин этот идиот, эта гадина… Тишайший интриган. Когда Никита нагружал его разоблачением Сталина, он, говорят, молчал. Лишь сопел. Или, может быть, позволил себе похихикивать. Хихиканье его известно всем. И я его слышал. Смешок у него тихий, сладко-елейный и будто ласкающий, меленький какой-то, и сам он меленький, долговязый, а меленький, но в его смешке обещание – “За мной не пропадет”. Или даже приговор. Я все жду, когда он по поводу меня похихикает. Просто стражду этого. Жаль, что призывают меня к нему в редких случаях. Видно, что в самых тупиковых. Я-то могу изобрести такую формулировочку, что Михаил Андреевич ее обнимать бросится. Это-то во мне его, возможно, и привлекает. Гурман. А так он видит людей насквозь. И меня, естественно. И он, конечно, понимает, что каждый из аристократов духа выделан в единственном экземпляре, а Ахметьевых – двое. Один Ахметьев является по вызовам в его перевернутый мир, а другой существует в реальности. И сейчас сидит перед тобой.