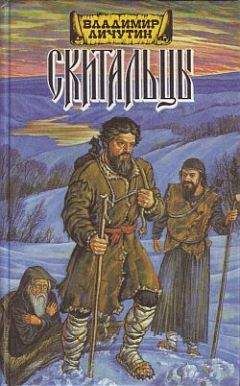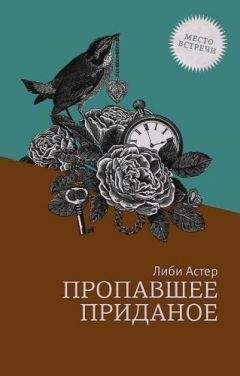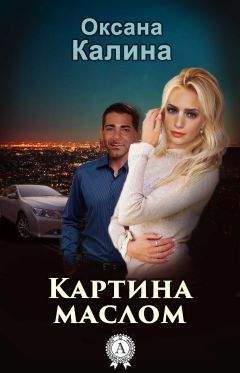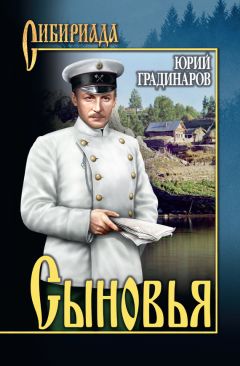Господи, куда как далеко занесло вас, уездный землемер капитан Сумароков. А впрочем, у мужика, этого грязного туземца, говорят, потомка вольных новгородцев, тоже есть своя власть над бабой, дочерьми, и небось он в своей семье царек, творит, чего левая нога хочет, и бабы дрожат перед ним, когда хозяин разразится грозой.
И так везде, везде, везде... Дикий край, конец земли, с ума сойти можно.
– Куда прикажете, барин? – робко побеспокоил возница. – Может, старосту кликнуть, так мы счас...
– Ну-ну, быстренько только.
Вскоре пришел староста, внушительный, с окладистой бородой и маленькими свинцовыми глазками под тяжелым бугристым лбом. Появился степенно, но на подходе шапку снял, склонился в поясном поклоне, ничего не спросил, так с непокрытой головой присел на облучок, показав вознице, куда править лошадь; и еще кобыла не остановилась, побежал к новой избе в два жила и красными окнами по переду, так же споро вернулся:
– С дороги отдохнуть изволите, ваше благородие, так вам здесь и чаек сварят и лошадей снарядят...
– Ну поди, поди, братец, – устало отмахнулся Сумароков – ему хотелось сесть, вытянув ноги, выпить водки и помолчать.
На крыльце показался сам хозяин, лысый, с красным нездоровым румянцем на отекшем лице, и, словно только что заметив гостя, стал торопливо спускаться вниз: «Милости просим, не погнушайтесь, проходите, будем рады. Осподи, какой гость пожаловал».
Вскоре они уже сидели за столом в светлой горнице: было прохладно и пустынно в ней, от цветных половиков доносило чистотой и свежестью; вдоль стен богатые сундуки, крытые резным железом и со многими потайными замками; на дубовой кровати пуховые перины с горой подушек; напротив комод с завитушками и поверх него зеркало в черной оправе. Землемер, окинув взглядом горницу, приятно удивился и даже повеселел и еще более возрадовался, заметив на покрытом столе зеленый лафитничек, осетровую копченую спинку, миску черной икры и всякие прочие заедки[48], которые больше по сердцу деревенской девке-молодице, чем гостю, заехавшему с мороза.
– Садитесь с нами хлеб-соль ись. Чем богаты, тем рады...
– Эк, братец, по-барски живешь, – до скрипа потирая тонкие сухие руки, воскликнул землемер Сумароков и подумал, что жизнь в общем-то не плохая штука, черт побери, и жить с умом можно даже в медвежьей глуши.
– Ну что вы, ваше благородие. Тянемся едва, чем Бог пошлет. Его милостью живем.
– Это так, но Бога не гневи, братец, – погрозил притворно Сумароков, и они понятливо рассмеялись, сразу опрокинули по рюмке водки. Тут Тайка внесла миску с наваристыми щами, прошелестела мимо широкими белыми рукавами, коснувшись щеки Сумарокова прохладным упругим шелком.
– Эй ты, раззява, – прикрикнул Петра Афанасьич. – Вы уж простите ее, растяпу.
– Как можно, да у вас красавица дочь, – воскликнул Сумароков, приглядевшись к девице. Он сразу заметил и ее великоватый лоб, и упрямо вздернутую верхнюю губу, и упругие щеки, пожалуй, слишком полноватые на ее лице, но глаза смутили землемера своей свежестью и прозрачной глубиной. «Хороша туземка, – подумал Сумароков. – И волосы, Боже мой, какие белые волосы у этой девки, кажется, что голове тяжко носить такую копну волос. Бывает вот, прорастет царский цветок в такой глуши, потом обломает его грязный, немытый мужик, запряжет в работу, и лицом вылиняет, поблекнет, глаза потухнут, веки сморщатся и нависнут над ними. Но ведь какая девка, что-то в ней есть. Есть что-то!»
– Давай за невесту вашу, братец...
– Ну что вы, ваше благородие, как можно. А ну поди прочь, – прикрикнул Петра Афанасьич на Тайку, но осанисто и горделиво посмотрел вослед.
Они опять опрокинули по рюмке. Сумароков пил медленно, мелкими глотками, по-женски оттопырив мизинец, и костистый подбородок некрасиво двигался. Не медля, они выпили еще по одной, просто так, с мороза, потом с устатку; Петра, несмотря на плохое здоровье, только наливался багровым румянцем, но не пропускал.
С каждой рюмкой он становился сановитее, дороднее как-то, а гость, напротив, уже распахнул мундир, показал белую батистовую рубаху и тонкую шею с острым кадыком.
– Скажите, мы ведь люди глупы, темны, что там на свете-то белом деется? У меня зятелко, Михейко-рыжий, часто в Петенбург ходит, а окромя торговли ничего опять же не смыслит. А мне и хочется знать, – ласково спросил Петра Афанасьич.
– Живут, везде живут, – отмахнулся Сумароков.
– Ну как не жить-то, живут, – глубокомысленно согласился Петра Афанасьич.
– Во Франции вот короля выгнали.
– Ой-ой, – изумился Петра, – да как же они так...
– Свободомыслие, да-с, братец. И давненько. И опять же у них культура. Они там лягушек едят, а мы нос на сторону. Погань, кричим, нечисть. Европа, одно слово.
– Турки, они такие...
– Какие турки, дикий ты человек. Французы проживают в той стороне да немцы.
– Может, и хранцузы, а все одно турки и басурманы. Мы не знаем про их и знать не хотим, – неожиданно сурово возразил Петра Афанасьич и, не убоявшись гостя, осенил себя истинным крестом. – Антихристовы дети, еретики. У них и понимание-то басурманское, своего государя-батюшку эдак.
– А они вот решились, да.
– Слава те осподи, у нас все тихо. Благодать у нас. Мы до этого не допустим. Да и как можно батюшку-государя выгнать.
– Мы-то не допустим. Поелику с Богом живем и с верой в государя, – согласился Сумароков и поспешил перевести разговор на другое. – Ну а вы здесь как, не обижают? Старшина там, староста, может, с уезда кто, дак ты, братец, скажи. Мы того, знаешь...
– Премного благодарен, ваше благородие. Живем мы тут тихо, мирно, греха не ведем.
– Так уже не ведете, ой ли?
– Нет, нет, греха у нас не ведется. И случается, кто против миру возвысится, голос подымет, дак мы того быстро окрутим и глотку заткнем. Мы ведь тут как братья Христовы живем, друг о дружке приткнулись, вот и тепло нам, – раскатисто захохотал Петра Афанасьич, но из щелок глаза выглядывали проницательно и холодно.
Землемер случайно поймал этот взгляд и подумал весело: «Вот где волчище...»
– Так, значит, в миру живете. А в Совполье жалобятся...
– Ежели неправедность где, правеж надобно навести. Это так... А у нас мир, – вздохнул Петра Афанасьич и кротко улыбнулся. – Кто придет ко мне, в ноги падет, последним поделюсь. Боже правый, ослобони от греха и соблазна, дай пожить в миру и согласии. А в Совполье они завсе поперечны, у них веком ладу не было. Не прикажете ли, ваше благородие, приготовить отправление? – спросил Петра, раздумывая, кого бы послать в дорогу.
Васька бы, тот, правда, посмирней, шалости не допустит, но и вид не тот, а Яшка опять же в больших городах бывал, обхождение хорошее знает, да и послушный нынь, куда с добром.
– Вели закладывать. Хочу засветло в Соялу попасть.
– Как прикажете, – послушно склонился Петра Афанасьич и крикнул в избу: – Эй, Тайка, вели Яшке сюда идти.
Яшка появился вскоре, словно за порогом сидел и наблюдал разговор; вошел, тряхнул седыми кудрями, и серебряная серьга полумесяцем легко сверкнула. Встал у порога, послушно опустил глаза, ожидая разговор. «Подобрал молодцов, – туманно подумал Сумароков. – И серьга в ухе. Молодой, а из тех...» Землемер не слушал, как вполголоса говорил хозяин с работником, в голове от выпитого стало призрачно, захотелось прилечь и соснуть.
На посошок еще выпил две рюмки, уже один, и вдруг заметил, что куда-то неожиданно подевался хозяин. В избе послышался громкий раздраженный крик, кто-то запричитал; Сумароков встал и, пьяно пошатываясь, вышел из горницы.
– Что случилось, что случилось, братец? – спросил лениво землемер, все плыло перед глазами и хотелось прочь из избы.
– Да так, пустяки, ваше благородие, – сердито, ломая натуру, откликнулся Петра Афанасьич. У порога, обвалившись на ободверину, стояла девка, и плечи ее жалобно вздрагивали.
– Пошла прочь, дрянь такая. И никуда ты не поедешь, сучья дочь, и думать не смей.
– Ну зачем вы так? Ай-яй-яй. Никакого обхождения, – мягко возвысил голос Сумароков, наливаясь благородным негодованием и чуточку трезвея даже.
– Обхождения?.. Плети ей хорошей нать, да чтоб до крови сбрызнуло. И не думай, не спущу, – смирял норов Петра Афанасьич. Не гость бы в доме, уж давно бы задрал подол да и всыпал бы хорошенько, чтобы неделю на лавку не села, а в лежку лежала. Ишь как заговорила, голос на родного отца возвысила, к тетке ей в Соялу захотелось ни с того ни с сего. Еще и утром не помышляла. Небось с Богошковым сговорено да самоходкой норовят убежать. Потом доставай ее, обвенчается да на колени падет, прости, скажет, батюшка. И простишь ведь... Нет-нет, не посмеет сестру родную по миру пустить.
Тайка повернула зареванное лицо, по-детски возила ладонью над верхней губой: «Да, не спустишь тебе... Все одно поеду. Я ведь ничего на дурно-то не помышляю. По-е-ду».
И опять заревела с новой силой.