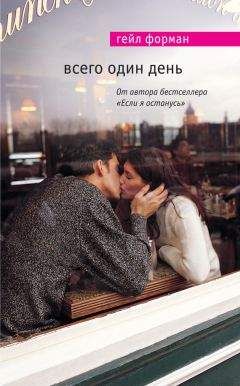— Иногда это и не нужно.
Обедать мы идем поздно в Индонезийский ресторан, в котором подают рийстафель[90] и можно есть, сколько хочешь, мы набиваем желудки, и когда едем обратно, сильно виляя, мне в голову приходит идея. В Кёкенхофе не то чтобы поля цветов, но, может быть, подойдет. Моими стараниями мы минут на двадцать заблудились, но потом я нахожу тот цветочный рынок, который проезжала сегодня утром. Палатки закрываются, и торговцы оставляют довольно много уже ненужных цветов. Мы с Рен набираем побольше и раскладываем на изгибающемся тротуаре, который проходит над каналом. И она катается в цветах, невероятно довольная. Я, смеясь, щелкаю ее на телефон и отправляю фотки маме.
Оставшиеся торговцы смотрят на Рен несколько изумившись, но не сильно, будто такое происходит как минимум дважды в неделю. Потом крупный бородач с огромным пузом и в подтяжках подносит нам увядающую лаванду.
— Это тоже можете взять.
— Держи, Рен, — я бросаю ей ароматные фиолетовые цветочки. — Спасибо, — благодарю я мужчину и рассказываю про предсмертный список Рен и что нам приходится довольствоваться этим, потому что поля с тюльпанами сейчас не найти.
Он смотрит на Рен, снимающую со свитера лепестки цветов и листья. Потом достает из кармана визитку.
— Да, в августе найти тюльпаны нелегко. Но если вы готовы рано подняться, может быть, на небольшое поле я вас отвезу.
На следующее утро будильник звенит в четыре, через пятнадцать минут мы выходим на пустынную улицу, где в своем маленьком грузовичке ждет нас Вольфганг. Я вспоминаю, сколько раз мне говорили родители не садиться в машину с незнакомцами, но, как это ни странно, я не воспринимаю его как незнакомца. Все втроем мы втискиваемся на передние сиденья и едем в теплицу в Алсмере. Рен буквально прыгает от волнения, что для такого раннего утра кажется несколько неестественным, она ведь даже еще кофе не пила, хотя Вольфганг предусмотрительно захватил с собой термос, а еще варенные вкрутую яйца и хлеб.
Всю дорогу мы слушаем безвкусный европоп и рассказы Вольфганга о том, как тридцать лет он служил в торговом флоте, а потом переехал в Амстердам, в район Йордан.
— По праву рождения я немец, но по праву смерти буду амстердамцем, — говорит он, широко улыбаясь.
Около пяти часов мы подъезжаем к «Биофлору», это совсем не похоже на фотографии садов Кёкенхофа с разноцветными коврами цветов, а скорее на какую-то ферму промышленного масштаба. Я смотрю на Рен и пожимаю плечами. Вольфганг останавливается возле теплицы размером с футбольное поле с рядом солнечных панелей на крыше. Нас встречает розоволицый парень по имени Йос. Когда он открывает перед нами дверь, мы с Рен просто ахаем.
Перед нами простирается множество разноцветных рядов с цветами. Целые акры. Мы идем по узеньким дорожкам между клумбами, воздух тяжелый, влажный и насквозь пропитан запахом навоза. Вдруг Вольфганг показывает на участок, где растут тюльпаны цвета фуксии, пылающего солнца и какой-то взрывной цитрусовый микс, похожий на красный апельсин. Я отхожу, оставив Рен наедине с ее цветами.
Какое-то время она просто стоит. Потом начинает кричать.
— Это невероятно! Ты это видишь? — Вольфганг смотрит на меня, но я молчу — не думаю, что она с нами разговаривает.
Рен бегает возле тюльпанов, потом вокруг ароматных фрезий, а я фотографирую и фотографирую. А потом Вольфганг говорит, что надо возвращаться. Всю дорогу он крутит «АББУ», говорит, что на эсперанто название группы означает «счастье», и что на генеральных ассамблеях ООН должны слушать их песни.
Только когда мы приезжаем на склад на окраине Амстердама, я замечаю, что в грузовике у Вольфганга еще ничего нет.
— Вы ничего не купили на продажу?
Он качает головой.
— Нет, прямо на фермах я не беру. Я покупаю на аукционе у поставщиков, которые привозят товар сюда, — он показывает на рабочих, разгружающих машины с цветами.
— Так вы весь этот путь только ради нас проделали? — спрашиваю я.
Он едва заметно пожимает плечами, типа, ну конечно, а ради чего же еще? К этому моменту я уже не имею права удивляться доброте и щедрости людей, но все же удивляюсь. Меня это каждый раз поражает.
— Можно мы вас сегодня пригласим поужинать с нами? — спрашиваю я.
Он качает головой.
— Сегодня не получится. Я иду в Парк Вондела, там будут ставить пьесу. Вам тоже следует сходить. Она на английском.
— Зачем в Голландии ставить пьесу на английском? — недоумевает Рен.
— В этом и разница между немцами и голландцами, — отвечает Вольфганг. — Немцы переводят Шекспира. А голландцы оставляют на родном языке.
— Шекспира? — переспрашиваю я, и у меня все волоски на теле становятся дыбом. — А что именно?
И Вольфганг еще не договорил название, а я уже начинаю смеяться. Это просто невозможно. Даже менее возможно, чем найти конкретную иголку на фабрике, где их производят. Менее возможно, чем найти одинокую звезду во вселенной. Менее возможно, чем найти единственного человека среди миллиардов, которых ты можешь полюбить.
Сегодня в Парк Вондела будут ставить «Как вам это понравится». И я уверена, хотя не могу объяснить, почему, но я готова поставить всю свою жизнь на спор, что он там будет.
Итак, год спустя я вижу его снова, как и в первый раз: в парке, в душных сумерках, он читает Шекспира.
Но сегодня, по прошествии этого года, все иначе. Это уже не «Партизан Уилл». А настоящая постановка — со сценой, рядами стульев, светом, толпой. Зрителей собралось много. Так много, что, когда мы пришли, вынуждены были устроиться возле невысокой стены на краю маленького амфитеатра.
И теперь он уже не в роли второго плана. Теперь он звезда. Орландо — я так и знала. Он первым выходит на сцену, и с этого момента становится ее настоящим хозяином. Все взгляды прикованы к нему. Не только мой. Все. Как только он начинает свой первый монолог, толпа стихает, и эта тишина стоит до самого конца пьесы. Небо становится все темнее, в свете прожекторов вьются комары и мошки, и амстердамский парк превращается в Арденнский лес, то волшебное место, где можно найти того, кого потерял.
Я смотрю на него, и мне кажется, что никого кроме нас тут нет. Есть только Уиллем и я. А все остальное исчезает: исчезает звон велосипедов и трамваев. Исчезают комары, кружащие у пруда с фонтаном. Исчезает шумная толпа ребят, которые расположились рядом с нами. Исчезают все остальные актеры. Исчезает весь последний год. Исчезают все мои сомнения. Меня всецело заполняет ощущение, что я на правильном пути. Я его нашла. Тут. В роли Орландо. Все вело меня сюда.
Его Орландо не похож на Орландо на наших уроках, не похож на то, как его играл актер в Бостонском театре. Он притягателен и уязвим, его страсть к Розалинде так ощутима, что ее чувствуешь просто физически, облако феромонов, исходящих от него, летит через снопы света прожекторов и липнет на мою влажную и ждущую этого кожу. Я же излучаю страсть, желание и да, ее, любовь, она тоже летит к сцене, и я воображаю себе, что он видит эти чувства бегущей строкой, как строки из Шекспира.
Он, конечно же, не может знать, что я тут. Наверняка это звучит безумно, но мне кажется, что он все же понимает. Чувствует меня в своих словах, точно так же, как я чувствовала его присутствие, когда впервые произнесла их вслух на уроке профессора Гленни.
Я многие реплики Розалинды, да и Орландо тоже, запомнила наизусть, и шевелю губами вместе с актерами. И у меня складывается ощущение, что это интимный разговор между мной и Уиллемом.
О, как охотно приложила бы я свои слабые силы к вашим!
Желаю вам удачи и молю небо, чтобы наши опасения не оправдались.
Любите меня, Розалинда.
И ты согласна взять меня в мужья?
Разве вы не хороши?
Надеюсь, хорош.
Скажите: получив Розалинду, как долго вы захотите ею владеть?
Всю вечность и один день.
Всю вечность и один день.
Одной рукой я держу за руку Рен, другой — Вольганга. Мы втроем образуем цепь. Так мы и стоим, взявшись за руки, до самого конца пьесы. До счастливого конца для всех: Розалинда выходит за Орландо, Селия — за Оливера, который мирится с Орландо, Феба — за Сильвия; злого герцога изгоняют, а тот, чье место он занял, возвращается домой.
Розалинда читает финальный монолог, пьеса кончается, зрители просто с ума сходят, они неистовствуют, хлопают, свистят. Я поворачиваюсь к Рен, обнимаю ее, а потом и Вольфганга, прижимаясь щекой к его хлопчатобумажной рубашке и вдыхая запах табачного дыма, смешанного с нектаром цветов и грязью. А потом кто-то обнимает и меня — из тех шумных парней, что стояли рядом с нами.
— Это мой лучший друг! — кричит один из них. У него озорные синие глаза, и он на голову ниже остальных, так что больше похож на хоббита, чем на голландца.
— Кто? — интересуется Рен. Теперь эти шумные голландцы, которые, похоже, пьяны, по очереди обнимают ее.