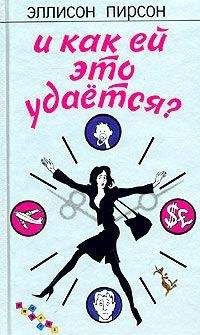Ричард плохо не подумал. Дипломат от Бога, он вмиг покорил мою маму, всего лишь героически запихнув в себя чудовищное количество хлеба с маслом. Каким БОЛЬШИМ он выглядел в нашем домике — мебель съежилась до размеров кукольной — и с какой нежной осторожностью обходил все запретные зоны прошлого нашей семьи. (Папуля к этому времени уже исчез, но его отсутствие было не менее осязаемым, чем присутствие.) От ужаса перед встречей с «шикарным приятелем Кэти» мама, всегда не в меру хлопотавшая ради гостей, впала в другую крайность и не купила даже необходимого. Рич, тут же вызвавшись сбегать за молоком в соседний магазинчик, вернулся с двумя коробками разного печенья и одой холмам, чьи закопченные спины он углядел в конце улицы.
— Джулия сказала, тебя кредиторы отца доводят.
Мама приглаживает шапку седых кудряшек:
— Пустяки. И вовсе ни к чему было тебя тревожить. Все утряслось, не волнуйся.
Должно быть, я скорчила гримасу, потому что мама быстро добавляет:
— Будь к отцу добрее, дорогая.
— С какой стати? Не очень-то он был добр к нам.
— Ш-ш-ш-ш. Ш-ш-ш-ш, — хором стыдят меня утюг и мама. — Ему тоже нелегко, — вздыхает она. — Такой умный, а применения себе не нашел. Семья не могла дать ему образования. Сам-то он о медицине мечтал, но это ж сколько лет учиться. Где им было деньги взять?
— Что ж он вечно проблемы на свою голову ищет, если такой умный?
Дискуссии, в которых она не сильна, мама всегда завершает беспроигрышно — так, чтобы парировать было нечем.
— Он очень тобой гордится, Кэти. Кому только твои школьные табели не показывал! Мне даже прятать приходилось.
Она складывает рукава последней блузки и добавляет ее к остальным вещам. Тех двух блузок, что я подарила ей на прошлый день рождения, в корзине нет. Как и других подарков.
— Мам, ты носишь тот красный кардиган, который я тебе купила?
— Но он же из кашемира, дорогая!
С тех пор как я начала зарабатывать, я покупаю маме одежду. Хорошую. Мне хочется, чтобы у нее были красивые вещи; мне нужно, чтобы они у нее были. А она все откладывает «до лучших времен» — то есть до той туманной даты, когда жизнь наконец исполнит свои обещания и станет чем-то более-менее приемлемым.
— Тортика отрезать? Будешь?
Нет.
— С удовольствием.
На серванте, по соседству с массивными часами, купленными четверть века назад, пристроился снимок моих родителей пятидесятых годов. Берег моря, оба смеются, небо за ними в черных точках чаек. Звездная пара. Отец в образе Тайрона Пауэра, чернильные глаза Одри Хепберн сияют на мамином лице; она в таких чудных коротеньких штанишках наездницы и аккуратных черных лодочках. В детстве этот счастливый снимок доставил мне немало горестных минут: я мечтала вернуть «маму с картинки». Я верила, что, если набраться терпения, мама обязательно вернется. Она просто откладывала свое возвращение до лучших времен. Рядом, в серебряной рамочке, — фото Эмили в день рождения. Ей исполнилось два года, она как раз увидела праздничный торт и вся светится от счастья. Мама ловит мой взгляд.
— Красавица наша!
Я улыбаюсь, киваю. Что бы в семье ни творилось, появление малыша всегда вносит свежую струю. После рождения Эмили мама пришла в роддом, и когда ее сухая, отмеченная годами ладонь легла на крохотную ладошку внучки, я вдруг поняла, почему, имея дочь, легче смириться с мыслью о неизбежной потери матери. А маме, должно быть, легче будет покинуть нас с Джулией теперь, когда мы сами стали мамами. Спросить ее об этом, чтобы убедиться, я так и не осмелилась. На кухне гремит посуда.
— Мам, прошу тебя, оставь все, посиди со мной.
— Отдыхай, дорогая. Ножки-то, ножки на софу положи.
— Ну иди же сюда.
— Сейчас. Только одну минутку.
Не могу я сказать ей о Ричарде. Как сказать?
Джулия живет в пяти минутах езды от маминого дома. В подобных районах улицы, как правило, наделяют названиями деревьев и растений, словно в попытке возместить тот ущерб, что нанесло природе строительство. Но сегодня проезд Орхидей, улица Вязов и Вишневая аллея звучат издевательски, внося тоскливо пасторальные нотки в симфонию стекла и бетона. Моя сестра живет в Березовом тупике. Подковообразное нагромождение слепленных друг с другом хибар шестидесятых годов окаймляют участки более поздних времен — творение городских архитекторов, горевших охотой возродить коммуны, так рьяно разрушенные городскими архитекторами.
Появление «вольво» вызывает нездоровый ажиотаж у стайки местных малолеток, но хватает грозного взгляда, чтобы ребятня смотала удочки. В этих краях даже головорезы смирные. Садик перед домом номер девять заменяет подобие клумбы — вскопанный круг земли с кривым рододендроном в окружении чахлых белых цветочков, которые я про себя зову английским ответом эдельвейсам. Одним колесом на бетонной дорожке, трехколесный велосипед припаркован перед домом, должно быть, с раннего детства ребятни Джулии: на проржавевшем, когда-то желтом сиденье вырос слой компоста из прелых листьев.
Дверь открывает женщина средних лет, с отросшей стрижкой «под пажа». Средних лет. А ведь она на три года и один месяц младше меня — факт, который мне никогда не забыть, потому что я и помню-то себя с той ночи, когда меня принесли в спальню родителей посмотреть на маленькую девочку. Обои в спальне были зеленые, а девочка красная-красная и завернута в белую шаль, которую мама всю зиму вязала в кресле перед обогревателем. Девочка смешно сопела, хваталась за протянутый палец и не хотела отпускать. Звалась девочка сестрой. Я сказала маме, что надо дать ей имя Валери, как у тети-ведущей из «Голубого Питера». В надежде избавить младшую от ревности старшей, если я сама назову сестричку, родители записали ее Джулией Валери Редди, и она поминала мне это всю жизнь.
— Чего стоишь? Заходи уж, — говорит сестра и прицокивает, углядев мою машину. — Снимут колеса-то. Может, поближе подъедешь? Барахло я уберу.
— И так сойдет. Ничего с ней не случится.
Мы гуськом протискиваемся по узкому коридору мимо белой металлической стойки, увитой ползучими растениями.
— Здорово у тебя цветы разрослись, Джулия.
— А чего им сделается? Растут как сорняк, — пожимает она плечами. — Чай еще есть, хочешь?
Стивен, слезь с софы, тетя Кэти из Лондона приехала.
Пока его мама возится с чашками, Стивен, симпатичный ребенок с неуклюжим телом подростка, скачет ко мне здороваться.
Новость о разрыве с мужем я привезла своей сестре как дар, как знак примирения. Она донашивала мою одежду, она слушала, как учителя сравнивают ее со старшей сестрой — той, что поступила в Кембридж, она за всю жизнь не имела ничего лучшего, чем у меня. Теперь все изменилось. Старшая сестра не сумела удержать при себе мужчину — а значит, проиграла в древнейшем из состязаний.
— Со свободным местом напряженка. — Джулия не извиняется, а лишь констатирует факт, смахивая с дивана журналы и откидывая к двери футбольные причиндалы Стивена.
Меня она усаживает в кресло поближе к газовому камину.
— Ну, выкладывай. Что стряслось?
— Ричард меня бросил.
Я плачу в первый раз с той минуты, когда Пола прочитала по телефону записку. Когда я объясняла Эмили, что ее папочка немножко поживет не с нами, слез не было. Не могла же я делить горе с шестилетним ребенком, чье представление о мужчинах зиждется на образе принца из «Спящей красавицы». Слез не было и во время нашего весьма цивилизованного общения с Ричардом на пороге дома, когда мы договаривались, как быть с детьми. Мы вечно договаривались, как быть с детьми, но все переговоры заканчивались тем, что я в спешке вылетала за дверь. В этот раз за дверью скрылся Ричард, перебросив через плечо мой подарок на позапрошлый день рождения — серый свитер, который я подбирала к его глазам.
— Вот ничтожество! Ты волчком вертишься, а он слинял. — Опустившись на колени перед креслом, Джулия притягивает меня к себе.
— Я сама виновата.
— Черта с два.
— Нет-нет, только я! Он оставил записку.
— Записку? Ну, класс! Вот мужичье чертово. Или чересчур умны для благодарности, или, как наш Нейл, чересчур тупы, чтобы выговорить это слово.
— Нейл вовсе не тупой.
Джулия смеется, и я вновь вижу ту девочку, с которой выросла, веселую и беззаботную.
— Пожалуй, нет. Но если честно, из хомяка проще вытянуть слово, чем из Нейла. Так он что, другую нашел, твой Ричард?
Мне такое и в голову не приходило.
— Нет… Вряд ли. Думаю, это я стала другой. Той женщины, на которой он женился, больше нет. Он сказал, что не может до меня достучаться, что я его не слышу.
Джулия гладит меня по голове.
— Что ж… Ты ведь работаешь день-деньской, тебе некогда с ним лясы точить.
— Он прекрасный архитектор.
— Угу, но чеки и все такое оплачиваешь ты.
— Ему тоже нелегко, Джули.
— Н-да? Если б мы обращали внимание на все, что для мужиков нелегко, до сих пор пояса верности таскали бы. Тебе с сахаром?