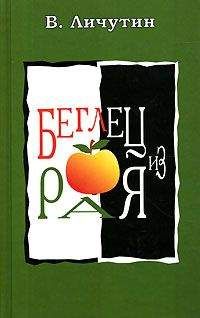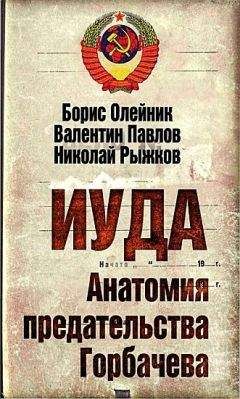Миледи внезапно озлобилась и пришла в чувство. Ненавистью тоже можно жить, да еще как ладно-то и споро; душа пылает и подсыпает перцу под хвост. И-эх, раскатись, залетные!.. Миледи хихикнула и сплюнула в сторону Братилова, сейчас действительно доедающего последнюю ржаную корку, обмакивая ее в крутую соль, облупливая горячую картоху, не спуская взгляда с этюда. На холсте станица лебедей вила кольцо вокруг розовой церкви, по самую паперть погруженной в дымящуюся морозную воду.
Что-то потянуло Братилова к окну: он прилип носом к стеклу, но увидел лишь лоснящуюся дорогу, всю в просовах и зажорах, тощие сугробцы по бокам, облитые грязью, и лошаденку Васи Левушкина, уныло помахивающую хвостом. Возчик мостился на телеге, набитой мешками с зерном, и с этой вершины, хмельно озирая вечереющие поля, мурлыкал что-то бессловесное себе под нос. Из кармана фуфайки торчало горлышко «Московской», заткнутое бумажной скруткой. Фуражир Вася Левушкин даже в дикие времена растащиловки был всегда при деле и в подпитии. Братилов зажмурил глаза, чтобы не видеть ненавистной «белоголовки», уплывающей от него, и скорее вернулся к столу, чтобы заглушить низменные страсти грустным чайком на смородиновом листе. А что, братцы мои, при великой нужде ведро воды заменяет сто граммов водки.
А меж тем, горбатясь, Миледи дотащила чемодан до родимой избы, стоящей в засторонке, на краю малоземельской тундры. У ворот разлились лужи, но страдница, как новобранец, прочавкала прямиком по воде и замерла в сенцах, прислушиваясь к родным голосам. Родители ее жили полорото, входи и уноси что хочешь, замков не признавали. Из кухни падал косячок света. Она увидела своих стариков, сидящих за самоваром, и опять рассолодилась, поплыла.
«Какие они у меня древние», — подумала Миледи, скрадчиво раздеваясь. И тут ее как бы обдало жаром: «Слава Богу, живы, дом есть свой, угол, куда приютят». Она вроде бы позабыла, что мать загрызается, тиранит дочь за нелады в семье, а отец плачет, как ребенок. Яков Лукич глядел куда-то в пространство, но грустным не выглядел: рожа зажарная по весне, в глазках солнышки, волосики сбились на темечке петушиным помороженным гребнем. Он, наверное, уже принял на грудь, да и мать плеснула на каменицу самую малость дешевенького красного вина.
Все прошло и все пропало,
Снегу белого напало,
Прошло-прокатилося,
Назад не воротилося.
На столе янтарно светит гора шанег, политых сметаною, багровеет блюдо пирогов брусничных толщиною в ладонь, поставленную на ребро. Умеет мать выхаживать жилое тесто, ночи не доспит, не раз вскочит в потемни, чтобы не упустить; и печь русскую ровно натопит березовыми полешками, а после выметет помельцом, чтобы не совалась под лопату зола, — да и накатит на жаркие каменья листы со стряпнёю, заслоном притворит, оставив малый продух, и никогда, сердешная, не суетится по кухне, не хватается не ко времени за бабьи дела, коих беспроворотно и безвыводно, не бегает из избы на волю, не хлопает дверьми, но сядет задумчиво на табуретку, уронив усталые морщиноватые ладони в подол темной юбки, и упрямо выжидает время, как бы сосчитывая его по невидимым часам, ловит сладкий дух печеного, что заструит вдруг из печи, как бы там подкадили особым ароматным кадильцем, пустили на кухню пахучую струйку: де, хозяюшка, не спи, очнись, подруженька, выгребай нас, готовеньких, на волю; и встрепенется Ефросинья, соскочит с сидюльки, особенным взглядом окинет избу, де, не упустила ли чего, встряхнет полотенишком чистым, а после, как сталевар у горнушки, приставив ладонь ко лбу, всмотрится в устье печи на пироги, как-то они выспели там, пропеклись ли, сподобились ли к столу иль надо еще погодить. И если ладом получилась стряпня, если на оселку не пало тесто, такая радость тогда в лице Ефросиньи, столько лучистого торжества, словно бы достойную пекариху нынче собрались чествовать на Слободе всем гуртом.
«И почему я не в мати? — вдруг с тоскою подумала Миледи, прощая разом все свары, и привередки, и утычки, и зряшную порою, сутырливую ругань по всякой малости. — Они рождены жить, а я, заскребыш, — на смерть».
Яков Лукич тут кашлянул, потянулся к шаньге, откусил, беззубо катая жевок за щекою, словно бы обжигаясь стряпнёю. Протянул Ефросинье стакашек, кивнул на бутылек, бруснично рдеющий возле локтя прижимистой жены. Значит, водка вся вышла из завода, и вот польстился старик на бабье винцо. А что ему краснуха? только губы помазать и горло прополоскать.
— Шнапс дринкен, — воскликнул Яков Лукич. — Насухо-то рот дерет. Просила порулить, дак рули столом, чтобы пасть у мужика не скорбела. Едва по земле брожу, уже полгроба в земле, только вино еще и держит. Не жмись, старая. Ну-ка, спробуем винцо, не прокисло ли оно…
Ефросинья сделала вид, что не поняла тарабарщины.
— Хорошо сидим, дедко. Дожили, слава Богу, тишина в дому, как в раю. Бывало-то, за столом куча мала. Детки-то норовят своих родителей живком съесть.
— Ага… Пока малы, у родителей ребра глодают, а как подрастут — за сердце принимаются, кровососы. Ты слышь? Шнапс дринкен — это значит шнапсу выпить. — Яков Лукич вдруг встрепенулся, как полевой коршун, заслышавший мышу, полуслепо всмотрелся через полуоткрытую дверь в полумрак коридора. — Кто-то скребется тамотки, иль мне показалось?
— Я это! — невольно откликнулась Миледи; не удалось незамеченной проскользнуть в свою спаленку.
Мать вышла, притворила спиною дверь, испытующе уставилась на дочь. Была Ефросинья и в старости долговязой, слегка пригорблой, но безгрудой; губы в масле, щеки в муке, из повойника выбилась на морщиноватый лоб сивая прядка.
— Чай-то будешь? Поешь горячева. Бил?.. — спросила тревожным шепотом.
— Иди и не спрашивай, — отрезала Миледи.
Мать покачала головою, недовольно ушла, нарочито распахнула дверь настежь, чтобы ущемить дочь ладом и миром у стариков.
— Хозяйство-то вести — не лапоть плести.
Миледи уже не хотелось ни от кого скрываться, прятаться от укоризны и затаиваться в себе. Если сейчас укрыться в девичьей боковушке, то весь мир сразу сожмется до одной сиротской кровати, и стену отторжения, неожиданно выросшую до небес, уже не взломать будет никакими таранами. Пусть родители плачут, пусть жалеют, пусть злобятся и проклинают, только бы не превращалась изба в погост, где все молчат по могилкам.
Миледи опустилась на колченогую скамейку, стоящую у порога, протянула ноги; крашеный пол приятно студил, изгонял жар. Чулок напитался кровью, и липкий след от ступни печатался на половице. Много кровцы наточилось. Иль уже взялась печенками? «Ну и умру, ну и пусть. Кому какое дело? — отрешенно подумала Миледи. Ей было в тягость наклоняться, стягивать мокрое белье, смотреть язву, испробитую до кости. — Наверное, насквозь ногу промзил, черт никудышный. Волдырь на волдырь. Помру, а мертвому куда с ногами?»
— Живут как собаки, — завела канитель Ефросинья, позабыв про удачную стряпню. Теперь жевок в горло не лез, а костлявый кулачишко так и прыгал по столешне, отыскивая вражину. А на кого скинуться, как не на старика, что последнее, зараза, уже допивал из бутылки, сосчитывая в рюмку рубиновые капли. Крутые щеки у Лукича забуровели, покрылись паутиною, как на старой левкасной иконе, а в пронзительно засиявших глазенках не то слеза близкая, не то ярь, что полоняет колченогого всякий раз от вина. Ярь или слеза? — тут бы надо сторожиться, укладывая слова, не давать языку воли, ибо хмельной дедко скор на расправу. И все же старуха строжила взгляд свой, упирая на Якова Лукича как на главного виновника дочерних бед. — Ветер ведет во все щели, ни сесть, ни лечь, ни щей путных сварить. А у него руки не из того места выросли. Живет как сыч на болоте, что схватит походя, то и его. И на кой бабу за себя брал, издеватель поганый? — клеймила старая зятя. — Что молчишь-то, пьянь лешова? И сам таков же, за бутылку всю жизнь продал…
— А что говорить? Точишь и точишь, как шашель. Одни дырья, а в них ветер. Девять дыр уже во мне протерла, скрозь видать. — Старик беззаботно хихикнул. — Пусть рулят как хотят, а ты не вяжись. А я уж порулил за свою-то жизнь и твердо знаю: взял курс — держи штурвал и не заглядывайся. У тебя в брюхе свербит, а ты терпи, покудова не сменят, стой на своем. Было на войне: зашел мне осколок в одну щеку, а вышел в другую, тринадцать зубов вышибло, как не бывало, да. Пять операций делали, четыре месяца через трубочку кормили. И что? Может, жалился кому?.. Муж и жена — одна сатана. В дороге всякое бывает — колдобины, ямы, жизнь такова. У меня всегда стремление было к работе, к жизни, но порой так наступят на душу, фортель выкинешь, ешкин корень. Ну и что?.. Выйдешь весной на улицу, воздух такой тихий, кукушка — ку-ку, слезу вышибат. Вот такой интерес. — Яков Лукич помедлил, выразительно постучал стаканцем о бутылочное стекло, запел: — Эх, гармонь нова, краска стерта, а гармонист похож на черта. А гармонисту бы рожка, дак походил на чертушка.