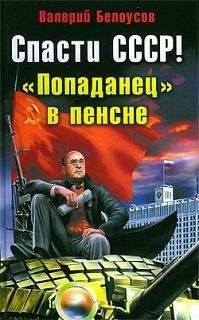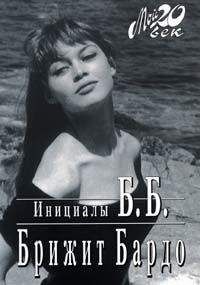В этой простонародной среде мне пришлось провести последние год-два своей жизни. «Порядок!» — говорят они друг другу. Или время от времени спрашивают: «Порядок?» «Пока-пока» говорят они на прощанье и «здорово» при встрече. Их любовь отличается от любви в общепринятом смысле, как дизельное топливо от бензина — это более тяжелое, более грязное и менее пылкое чувство. Не то чтобы они питают отвращение к бензину, эти допотопные кокни. Они прекрасно умеют обращаться с пропитанными бензином тряпками. Они обожают засовывать их в щель для писем своим черным / смуглым / желтым (ненужное зачеркнуть) соседям, поселившимся в их владениях. Это так по-английски: средний класс говорит «Простите!» и вышвыривает их на улицу, в объятия бриллиантовых наркоторговцев и перламутровых королев.[34]
Я свалилась прямо на него. Потянувшись за рождественским кексом. Ирония судьбы в том, что Риэлтер умел хорошо говорить — когда хотел. Но где-то на страшном пути, по которому он шел, ветер переменился и задул гласные глубоко ему в глотку, где они и умолкли навсегда. Я свалилась на него, а он был холодным, твердым и неподатливым. Насколько это лучше, чем когда он был живым, — тогда он был горячим, мягким и бесконечно уступчивым. На его голубых губах выступила странная розовая пена. Я могу рассказать о его ротовом отверстии, об окоченении, о мертвой плоти под моими проворными ручонками и пухлым тельцем, но я не в силах описать вам фантастический вкус этого мороженого. Как упоительно было уплетать сытный кекс, не обращая внимания на смородинки и изюминки в волосах у него на груди.
Это было несколько часов назад. Кажется, во второй половине дня. Потом я немного побродила по квартире, теперь хожу уже везде. Вчера и позавчера я спала внизу на диване, подоткнув под себя подушки для тепла, но все равно не смогла согреться. Сегодня ночью будет мороз, а маленькие детишки вроде меня боятся холода. И больше некому вложить пакетик с горячей картошкой в мои пухлые ручки или согреть дыханием коротенькую шейку. Между ступеньками здешней лестницы широкие просветы, карабкаясь по ней, ты видишь сквозь эти просветы комнату внизу. Добравшись до второго пролета, я вижу прямо перед собой большой стенной шкаф.
Я решила во что бы то ни стало туда влезть — приволочь что-нибудь из мебели, взобраться наверх и дотянуться до ручек. Но для моей затеи годится только стол, на нем стоит телевизор, а этот телевизор, хотя он и переносной, мне перенести не под силу. Даже если удастся соорудить нечто вроде мостков, а дверцы шкафа все равно откроются наружу и меня отшвырнет обратно на лестницу. Если удастся забраться внутрь шкафа, что я там найду? Что смогу набросить на себя? Шкаф почти пуст. Как могла женщина, так часто посещавшая «Маркс энд Спенсер», уйти из жизни почти раздетой? О, я знаю, прекрасно знаю.
Моя кроватка — это клетка на ножках. Она стоит в углу за телевизором, между двумя окнами и двумя холодными батареями под ними. Даже когда батареи были горячими, из окон страшно дуло, и я в конце концов оказывалась на другом конце комнаты, у них в постели, между Ледяной Принцессой и Риэлтером, прикидывая в уме, что лучше — получить от каждого по киловатту или же подвергнуться опасности того, что кто-нибудь из них в героиновом ступоре повернется и задавит меня насмерть.
Она там, на кровати, лежит, подогнув ноги, но расправив плечи. Она там, в футболке с портретом Че Гевары, одна рука откинута в сторону, скрюченные пальцы другой застыли на бедре, словно смерть застигла ее в тот момент, когда она барабанила ими от раздражения или скуки. Она там, одеяло — моя единственная надежда — накинуто на середину туловища. Она там, ее темные волосы веером рассыпались по смятой подушке, а тусклые глаза широко открыты от удивления. Она, конечно, была удивлена случившимся. А я ничуть.
Следующие полтора года я просуществовала на этом заднем крыльце, окутанная красным облаком гнева. Разумеется, я совершала свой жизненный круг, чертовы пятьдесят две недели — в каждой семь дней, в каждых сутках двадцать четыре часа, — но была при этом бледной тенью от прежней слабой тени самой себя. «Мы пронеслись в стремительном фанданго!» — пел Лити и в самом деле стремительно проносился в фанданго. Малыши просились пйсать, стены стенали, Жиры трясли телесами, а Грубиян бросал на меня многозначительные взгляды. Я ходила в «Баскинз», возвращалась обратно. Ходила в магазин миссис Сет, возвращалась домой. Смотрела телевизор, слушала свое маленькое радио и все время сердилась. Очень сердилась. Потому что как только мой гнев утихал, как только гейзер ярости, готовый сорваться с губ, угасал, Грубиян манил меня пальцем, выводил наружу, звонил Берни, чтобы тот спустил ключ, и отводил меня в эту мансарду, полную горя, вины и одиночества. Ну, просто отель, где разбиваются сердца.
Я жила во гневе — и просыпалась в ярости. У меня всегда был вспыльчивый характер, и я, как правило, тянула время, все было как в жизни. Гнев разливался по всему моему не такому уж тонкому телу наподобие смазки «Три-в-одном» для ржавых механизмов. Мое толстое старое брюхо урчало от раздражения, обвисшие руки-ноги тряслись с досады, уставшая старая вагина становилась резиновой от обиды, внутренние органы играли арпеджио от возмущения. Даже те части тела, которые, пока живешь, не считаешь одушевленными — волосы, зубы, ногти на пальцах ног, — болели от неудовольствия. Вы видели когда-нибудь недовольный ноготь? Наверное, никогда.
Меня обозлила смерть Пабло Эскобара, я бы охотно выпотрошила его своей рукой. Бесили сербские лагеря смерти — если бы я могла добраться до этого жирного ублюдка Милошевича, я бы подвесила его за яйца. В старой нацистской Германии головорезы сжигали бараки, в которых жили люди со смешным прозвищем «Gastarbeiter»; вот бы заставить этих бритоголовых чудовищ выпить коктейли Молотова. Ватиканский тупица-поляк явил миру безрассудную смелость, признав, что Галилей был прав — как будто солнце сияет из его собственной долбаной гелиоцентрической задницы. Гнусный арканзасский губернатор, которого распирала собственная сперма, пристроил к делу свой непостоянный член в Овальном кабинете, — я думала, что изойду желчью. Миролюбивые индусы сровняли с землей мечеть в Айодья — прекрасная старинная вавилонская забава, — и восемьсот человек переселились в местный город-побратим Далстона — хотела бы я сама быть Кали, чтобы удавить хоть кого-нибудь из них своими руками. Исхудавшие, похожие на скелеты сомалийцы расстреливали друг друга со смертоносно благотворительной помощью Запада — нашлись же у них средства, чтобы расколотить друг другу деревянные башки? В Британии поганые ирландцы снова начали устраивать взрывы — я была бы счастлива набить пластиковой взрывчаткой их лживые и льстивые рты. Взрывы на Манхэттене, взрывы в Бомбее, безумные сектанты в Техасе — каждый внес свое в мегатонное солнце моего гнева. А вот еще один талантливый, знаменитый еврейский умник затеял новый процесс на миллион долларов против шиксы, которую бросил ради ее приемной дочери. Ой-ой-ой, стыд и срам!
В июне девяносто третьего, когда сербские фашисты обстреляли футбольное поле в Сараеве, были убиты двенадцать боснийских парней. Ну, это уж слишком — хватило бы и одного; у боснийцев, по крайней мере, осталась бы целая футбольная команда. Мне казалось, что все насильственные смерти похожи на эту — этакое удаление запасных игроков. Массовые боевые действия — лучшее доказательство того, что массы вообще существуют. Двадцатый век — щелкунчик, несущий смерть. Тысячи людей ежедневно идут по Уайтхоллу, но никому не приходит в голову запустить банкой краски в надутую статую фельдмаршала Хейга, человека, который погубил на болотистых полях Фландрии треть миллиона людей за каких-то полгода. Собственная европейская Хиросима.
Когда в конце пятидесятых я приехала в Британию, люди все еще переживали последствия Первой мировой, с трудом осознавая, что она коснулась каждого. Что не осталось города, деревни, селения, школы, предприятия или клуба, где не было бы потерь в личном составе. В Поминальное воскресенье особым почетом пользовались бедняги-ветераны, в показном великолепии проходившие, ковыляя, по Уайтхоллу, чтобы снова оказаться в тени каменного коня Хейга. Парламентарии в этот день встают на задние ножки, мычат и блеют о том, как эти муравьи в хаки отдали жизни за сохранение свободы слова, за саму свободу Какую именно свободу? Свободу быть участником шайки? Свободу умереть от рака? Нам предоставлен огромный и прекрасный выбор самых разнообразных анкет. Вопросничков мистера Кана относительно качества жизни, предлагаемых неизлечимо больным.
Рак и война. В каждом городе, деревне и селении памятники павшим в битве с саркомой; разумеется, тех, кто выживает, определяет случай. «Это мог быть я!» — стонут те, кто остался, но только слабоумные моралисты осмеливаются думать, что это должны были быть они.