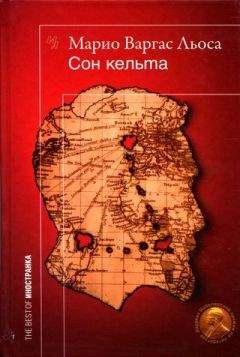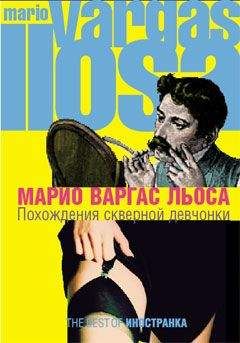— Я скажу вам сейчас приятную вещь, президент, — сказал он вдруг. — У меня нет времени читать бредятину, которую пишут наши интеллектуалы. Стихи, романы. Государственные дела поглощают меня целиком. У Марреро Аристи, несмотря на то что он столько лет работал со мной, я не прочел ни строчки. Ни его «Over», ни статьи, которые он написал обо мне, ни его «Доминиканскую историю». Не читал я и ни одной из сотен книг, которые мне посвящали поэты, драматурги, романисты. И даже этой бодяги, которую пишет моя жена, я не читал. У меня нет на это времени, как нет времени смотреть кино, слушать музыку, ходить на балет или петушиные бои. И, кроме того, я никогда не верил художественной интеллигенции. Она бесхребетна, не знает чувства чести, склонна к предательству и слишком услужлива. Ваших стихов и эссе я тоже не читал. Чуть полистал, правда, книжку о Дуарте, «Христос Свободы», которую вы прислали мне с нежной дарственной надписью. Но есть одно исключение. Это — ваша речь, произнесенная семь лет назад. В театре «Бельас Артес», когда вас принимали в Академию словесности. Вы ее помните?
Маленький человечек снова вспыхнул до корней волос. И весь засветился — радостным, неописуемым ликованием.
— «Бог и Трухильо: реалистическое истолкование», -пробормотал он, опустив веки.
— Я перечитывал ее много раз, — заскрипел слащавый голосок Благодетеля. — Знаю наизусть целые куски, как стихи.
К чему это откровенничанье с карманным президентом? Никогда у него не было такой слабости. Балагер может возомнить о себе, почувствовать себя важным. Дела обстоят не так, чтобы за короткий период времени отделываться от второго своего сотрудника. Он успокоился, вспомнив, что, возможно, главным свойством этого маленького человечка было не только знать то, что нужно, но, что еще важнее, не лезть туда, куда не нужно. Он этого никогда никому не скажет, чтобы не заработать смертельной ненависти остальных приближенных. Та
Балагера потрясла его, и впоследствии он не раз спрашивал себя, не выражала ли она глубинной истины, непостижимого божественного решения, которое определяет судьбу народа. В тот вечер первые фразы речи, которую новый академик, облаченный во фрак, скверно на нем сидевший, читал со сцены театра «Бельас Артес», прошли мимо внимания Благодетеля. (Сам он тоже был во фраке, как и все, собравшееся в театре мужчины; дамы же были в платьях до полу и сверкали драгоценностями и бриллиантами.) Речь представляла собой синтез доминиканской истории с момента прибытия Христофора Колумба в Эспаньолу. Он начал прислушиваться и вникать, когда из ученых слов и элегантной прозы докладчика стали возникать широкое видение, четкая мысль. Доминиканская Республика просуществовала более четырех веков — четыреста тридцать восемь лет — и пережила многочисленные бедствия — пиратские набеги, нашествия гаитянцев, попытки аннексий, массовое истребление и бегство белого населения (после освобождения от Гаити их оставалось всего шестьдесят тысяч) — благодаря Провидению. До сих пор эту миссию выполнял сам Создатель. Начиная с 1930 года, Рафаэль Леонидас Трухильо Молина сменил Господа Бога и взял на себя этот тяжкий труд.
— «Воля, вооруженная опытом и энергией, способствующая поступательному движению Республики в свершении своей судьбы, и охранительная и благотворная деятельность тех сверхъестественных сил, — продекламировал Трухильо, прикрыв глаза. — Бог и Трухильо: вот оно, в общих словах, объяснение, во-первых, того, что страна выжила, а, во-вторых, что она процветает».
Он приоткрыл глаза и вздохнул с грустью. Балагер слушал его в восторге, от благодарности став совсем маленьким.
— Вы и сейчас считаете, что Бог передал мне эту ношу? Что он возложил на меня ответственность за спасение страны? — спросил он с неуловимой смесью иронии и искреннего волнения.
— Еще более, чем тогда, Ваше Превосходительство, — отозвался приятный тонкий голосок. — Трухильо не смог бы выполнить сверхчеловеческую миссию без помощи трансцендентной силы. Вы были для этой страны орудием Верховного Существа.
— Жаль, что недоумки-епископы этого не поняли, — улыбнулся Трухильо. — Если ваша теория верна, то Бог, надеюсь, заставит их расплатиться за их слепоту.
Балагер не был первым, кто ассоциировал его дело с Божественным Провидением. Благодетель помнил, что раньше профессор права, адвокат и политик дон Хасинто Б. Пейнадо (он назначил его карманным президентом в 1938 году, когда после массового убийства гаитянцев в мире поднялась волна протеста против его избрания на третий срок) вывесил огромный светящийся лозунг на дверях своего дома: «Бог и Трухильо». С тех пор подобные надписи украшали многие дома столицы и прочих городов. Нет, это была не просто фраза; это были аргументы, оправдывающие альянс, в который Трухильо внедрялся как непреложная истина. Нелегко было чувствовать на своих плечах тяжесть сверхъестественной длани. Речь Балагера переиздавалась Трухилевским институтом каждый год, была включена в обязательное чтение в школах и стала программным текстом, гражданским наставлением, призванным воспитывать школьников и университетских студентов в духе трухилистской доктрины; наставление писала лично им назначенная тройка — Балагер, Мозговитый Кабраль и Ходячая Помойка.
— Я часто думал об этой вашей теории, доктор Балагер, — признался он. — Это было божественное решение? Почему — я? Почему выбор пал на меня?
Доктор Балагер облизнул губы кончиком языка, прежде чем ответить.
— Божественное решение неотвратимо, — сказал он в душевном порыве. — Должно быть, принимались во внимание ваши исключительные качества лидера, работоспособность, а главное — ваша любовь к этой стране.
Почему он терял время на словоблудие? Ждали срочные дела. И тем не менее — как странно и так на него непохоже — он чувствовал необходимость продолжить этот праздный, беспредметный и совершенно личный разговор. Почему — с Балагером? Из всех, кто работал с ним рядом, с Балагером у него были наименее близкие отношения. Он никогда не приглашал его на неформальные ужины в Сан-Кристобаль, в Дом Каобы, где пили крепкие напитки и порою переходили все границы. Может быть, потому, что в этой своре интеллектуалов и литераторов он единственный пока еще его не разочаровал. И потому, что слыл интеллигентом (хотя, по мнению Аббеса Гарсии, аура у Президента была грязная).
— Я всегда был плохого мнения об интеллектуалах и литераторах, — снова заговорил он. — На шкале достоинств, в порядке их убывания, первое место занимают военные. Приказы выполняют, интригуют мало, времени не отнимают. За ними — крестьяне. В батейях и боно [хижина и подсобное помещение на территории сахарных заводов.], на сахарных заводах здоровые, работящие люди трудятся с честью, присущей нашей стране. Потом идут чиновники, предприниматели, коммерсанты. Литераторы и интеллектуалы — самые последние. Даже после церковников. Вы — исключение, доктор Балагер. Но все остальные! Свора мерзавцев. Благ получают больше всех и больше всех причинили вреда режиму, который их кормил, одевал, окружал почетом и уважением.
К примеру, эти чапетонес [Недавно прибывшие в страну европейцы (исп.).], Хосе Альмоина и Хесус де-Галиндес. Мы их приняли, дали им убежище, работу. А они сперва хвалили нас, выпрашивали что только можно, а потом принялись клеветать, писать о нас гадости. А Осорио Лисарасо, хромоногий колумбиец, которого вы привезли? Приехал писать мою биографию, возносил меня до небес, жил, как король, вернулся в Колумбию с на-битыми карманами и оборотился антитрухилистом.
Еще одним достоинством Балагера было знать, когда не нужно говорить и сделаться сфинксом, перед которым Генералиссимус мог позволить себе эти облегчающие душу излияния. Трухильо замолчал. Вслушивался, пытаясь уловить, как звучит видневшаяся за окнами металлическая поверхность, изрезанная параллельными пенящимися линиями. Но не расслышал рокота моря, шум автомобильных моторов заглушал его.
— Вы верите, что Рамон Марреро Аристи предал? — спросил он внезапно, снова возвращаясь к немому участнику диалога. — Что он дал гринго из «Нью-Йорк тайме» информацию для нападок на нас?
Доктор Балагер не переставал удивляться неожиданным вопросам Трухильо, коварным и опасным, которые других ставили в тупик. У него на это случай были свои уловки:
— Он клялся, что нет, Ваше Превосходительство. Сидя вот тут, где сидите вы, со слезами на глазах он поклялся мне матерью и всеми святыми, что не был информатором Тэда Шульца.
Трухильо раздраженно поморщился:
— Что же, Марреро пришел бы сюда признаваться, что продался? Я спрашиваю, что думаете вы. Предал или нет?
Балагер умел и прыгнуть в воду, когда не оставалось выхода, — еще одно его достоинство, которое было известно Благодетелю.
— С болью душевной, потому что уважал Рамона как интеллектуала и как личность, должен признать, что да, что именно он информировал Тэда Шульца, — проговорил он совсем тихо, почти неслышно. — Доказательства были убийственные.