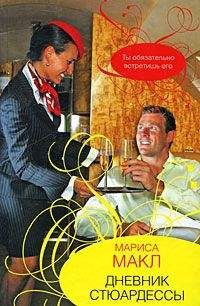По тротуару полутораметровой ширины шли трое — «…она не эмигрантка… мне бы похавать… она не из наших…» — расслышала Настя. Она, конечно, не хотела кричать им: «Я из ваших! ваша!», но оставить машину с открытым багажником она тоже не могла.
— Эй, ребята! Помогите, пожалуйста, а?
Ребята подошли, буркнули «здрасьте» и принялись за дело. Они вытащили пакеты с продуктами и обнаружили в багажнике коробочку с инструментами. «Запасливый Арчи», — благодарно, но не без насмешки подумала Настя. Больше всех старался Семен. Толстый, в красном спортивном костюме. «Временно», — сказал он, вытирая руки о ляжки, затянутые шароварами. Настя пригласила их выпить шампанского.
Они одобрительно покивали на квартиру, внеся пакеты с продуктами. Они тоже жили на этой улице, только «в хреновых». Настя налила шампанское — «им все равно, «Корбель» это или «Андрэ». Они и «Андрэ» себе вряд ли позволяют». Никто из них не работал. Получали пособие от «джуйки». Так ласково они называли Jewish Immigration Service[25]. Семен подрабатывал иногда в даун-тауне[26], на фабрике — склеивал коробочки. «Там одни слабоумные, хе-хе, и я!» Оказалось, что в каждом доме на этой улице и соседних живут эмигранты. «Которые здесь по году, уезжают отсюдова». О тех, которые «по году», было сказано с уважением. «Вылезают из гетто», — заключила Настя.
— Вы даже и не как эмигрантка. — Помимо красного, а при свете еще было видно, что давно не стиранного костюма, на Семене были очки. Он очень потел, и очки соскальзывали ему на кончик носа. Он, видимо, привык, потому что не возвращал их к переносице пальцем, а просто сморщивал физиономию в гармошку, подтягивая верхнюю губу к носу и обнажая нечищенные зубы.
— А я и не чувствую себя эмигранткой. Просто раньше жила в Москве, а теперь здесь.
— Да уж, просто. Все мы здесь не так-то спроста, — сказал горбатенький парень с рыжими растрепанными волосами.
— Вы покинули Родину по политическим убеждениям? — разыграла Настя роль журналистки, а в уме добавила: «Какие убеждения — они и законов-то не знают, ни тамошних, ни здешних».
— Мы евреи, — сказал Семен за всех.
А горбатенький вдруг хихикнул и пропел знаменитый припев советских частушек «Евреи, евреи, кругом одни евреи!»
Они все никак не могли поверить, что Настя только несколько месяцев, как приехала, а уже работает. Когда она сказала, что манекенщица, а на вопрос «Сколько в час платят?» ответила: «Минимум шестьдесят», они собрались уходить. Она засмеялась, открывая им дверь и выпуская в мир троллей — «Иногда я работаю один час в месяц!»
Арчи ждал неделю. Выкуривая по три пачки сигарет в день, поглядывая на телефон, прислушиваясь по ночам к проезжающим мимо дома машинам. Через неделю Настя приехала. Но, к его удивлению, только чтобы забрать большую фотографию ленинградского Спаса на Крови.
— Ты что же, насовсем ушла? — он с напускным безразличием играл кушаком халата.
Настя посмотрела на него с недоумением, будто говорила: «Что вы? О чем вы? Мы разве знакомы?»
Она действительно недоумевала. Ненависти к Арчи у нее больше не было. Был стыд. Стыд за себя, за то, что ОНА жила с ним. Но Настя простила себя, объяснив ошибку молодостью и неопытностью. Тем, что, выходя замуж за Арчи, она надеялась освободиться от родителей, от зависимости. Верила, что будет свободна. И была отчасти те семь месяцев в Москве. Они знали, что жизнь их временна — Арчи уже ждал разрешения на выезд — и не устраивали ее. Приехав же к нему в Лос-Анджелес — от скуки, оттого, что жизнь увиделась наперед провинциальным водевилем, а хотелось всегда греческих трагедий, — Настя поняла, что Арчи хуже родительской смирительной рубахи.
Каждый день теперь она находила в квартире просунутые под дверь конверты. Арчи сам удивлялся своей способности столько писать. Он клялся быть другом, помочь ей встать на ноги и вообще — найти ей мужа. Последнее больше всего забавляло Настю. На примете у нее для роли мужа никого не было, и она часто вспоминала Италию. Где было так беззаботно, легко и любвеобильно. «Римские каникулы» — называли эмигранты свое пребывание в Риме в ожидании разрешения выезда в Америку, Австралию или Канаду. Все были как бы подпорчены воспоминаниями об Италии.
Несмотря на все свои обещания, Арчи постоянно делал гадости. То он писал письмо Настиной матери о том, что «ваша неблагодарная дочь оказалась еще и проституткой!». Насте было наплевать на общественное мнение. Но ей было жалко маму. Та послала ей девять томов Пушкина, а Арчи не отдавал посылку. Ей было обидно не из-за страстной любви к русскому негру, а просто она знала, с каким трудом доставала мать книги. То вдруг Арчи умолял Настю выйти «на одну только минуточку, зайчик», и она получала в подарок гигантский букет роз. Но на следующий же день Арчи ворвался в комнату, отпихнув Настю от двери, и забрал… швейную машинку. «Ты собираешься шить себе саван?» — грустно пошутила она. «Это ты подохнешь! — рявкнул Арчи. — Без меня ты ничто!» Но наутро просунул под дверь письмо, полное раскаяния и мольбы.
«Двадцать минут ежедневных упражнений будет вполне достаточно!» — постановила себе Настя и, как умалишенная, прыгала под музыку радио-часов, оставленных Арчи. В шортах и маечке, под которой еще подпрыгивали соски, она открыла двери настойчиво звонящему. С разметавшимися пейсами, сам будто после упражнений, на пороге стоял раббе Нафтолий. Толя из Винницы!
Эмигрировав еще в 70-м году, Толя быстро разобрался в ситуации. Он примкнул ко всему, к чему можно было примкнуть в еврейской общине Лос-Анджелеса. С годами его положение укрепилось — он очень ловко умел выпрашивать деньги у американских евреев в помощь советским. Никто, правда, не мог проверить, сколько из пожертвованных сумм шло на помощь, а сколько в его карман. Тем не менее его активное участие в жизни общины было отмечено назначением его раббе. Этот титул позволял Толе ездить по городу в очень нетрезвом состоянии и быть прощенным полицией.
— Вы должны навестить его. Он очень болен. Он совершил такой героический поступок. У него высокая температура.
Настя все-таки не могла отключить в своем сознании ячейку, занятую Арчи. Тем более, он не давал этого сделать. Отчасти из жалости, отчасти из любопытства она поехала к нему.
Арчи открыл двери и пошел в спальню. Настя подумала, что это трюк, но потом решила, что если он болен, то лежит в кровати. Ливинг-рум[27], заметила она, стала очень неуютной. «Здесь живет никто. Абсолютно бесхарактерная квартира», — и Настя пошла за Арчи.
— Ты очень красивенькая, зайчик, — у Арчи был тихий голос.
А у Насти новая прическа. Волосы были цвета раздавленной брусники на марле — Настя успела сшить несколько белых марлевых платьев с разлетающимися юбками, рукавами, капюшонами, пока Арчи не забрал машинку.
— Что с тобой? Ты в религию ударился?
— Я сделал обрезание.
Настя помолчала, не зная, как реагировать. Потом засмеялась.
— Хочешь посмотреть?
— Не-е-е-т! — она завизжала и стала закрывать руками лицо, будто от этого сама могла стать невидимой.
Арчи откинул уже одеяло и полу халата, и Настя увидела его хуй. То есть не хуй, а продолговатый предмет, забинтованный и заклеенный пластырем.
— Какой ты… чокнутый. — Себе она повторила, что молодец, что ушла от него.
Арчи выпросил у Насти composit — так называемую визитную карточку манекенщицы. Фото на нем были новые, сделанные уже без Арчи. Она и взяла его с собой, чтобы показать Арчи — вот, мол, и без тебя я существую!
Через час она встретилась с Другом в небольшом шопинг-центре на Сансет бульваре, в продуктовом магазине «At Masha». Владелец «У Маши» и в Одессе был директором гастронома № 1. «Все лучшие люди отоваривались у него», — говорили о нем. В Лос-Анджелесе эмигранты постепенно тоже начали позволять себе делать закупки «У Маши». Продукты эти, правда, состояли не из одесского набора: семга, белуга, икра. Прилавки были заполнены пельменями, солеными огурцами и помидорами, телячьей — «Докторской» — колбасой, консервами с баклажанной икрой, печенью трески, рижскими шпротами. Платить надо было долларами, правда.
Жена хозяина — Маша — не сидела дома, как в Одессе, а стояла на маленькой кухне — в магазине было поставлено несколько столиков, и посетители могли откушать супа-харчо, котлет с гречневой кашей, борща.
Друг купил в ликер-сторе[28] пинту водки — плоскую бутылочку, прекрасно умещающуюся в нагрудном кармане: советский алкаш молился бы на нее! «У Маши» не было разрешения на продажу спиртных напитков, но хозяева с радостью выдавали пластиковые стаканчики посетителям. Устроившись в углу, Друг разлил водку по стаканам, пряча бутылку в бумажном пакете.
— Ты смеешься, Настька! А ведь он это для тебя сделал.