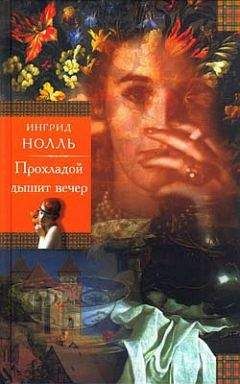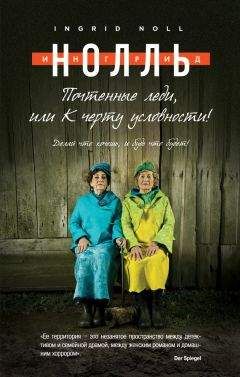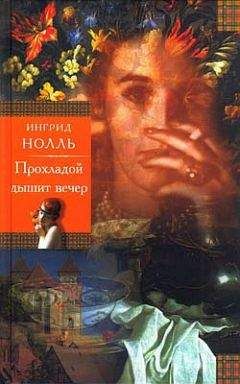Хотя сама я давно уже за модой не гонюсь, но в транспорте или в приемной у врача первым делом смотрю людям на ноги. Уж если в юности что выучишь, так это навсегда. И о людях я сужу по качеству их обуви. Слава Богу, мои слабеющие глаза не позволяют мне быть слишком строгим экспертом.
Когда меня начали обучать мастерству продавца, Ида сидела дома и вязала распашонки. Хуго не должен был примерять покупателям ботинки, он скучал в кассе, а иногда уходил на склад, и я тут же шмыгала вслед за ним под каким-нибудь предлогом. Там Хуго сидел и курил. Меня он на это не подбивал, а просто подзадоривал, и я тоже курила. Вообще-то, Хуго мог перекурить и в папиной конторе, на складе это было вовсе запрещено, но он не хотел, чтобы его слишком частые отлучки с рабочего места бросались в глаза тестю. Так что мы стали сообщниками.
Хуго был лишь несколькими месяцами старше своей невесты, ему тоже шел двадцать второй год. Ее он обожал, меня считал ребенком. Впрочем, Иде все равно не слишком нравилось, что я заняла ее место в магазине. Она, хоть и не вполне бескорыстно, настаивала на том, что мне следует еще поучиться в школе.
— Вздор! Чепуха! — отвечал отец.
Мне все эти разговоры были уже совершенно безразличны: я с каждым днем все больше влюблялась в Хуго и, глядя на растущий живот Иды, вопреки здравому смыслу и морали, продолжала мечтать о ее скорой смерти при родах.
Дочку Хуго и Иды окрестили Хайдемари, «Мария на поляне», и мои старшие братья тут же стали шутить и намекать кое на что, конечно, не в присутствии моих родителей. Хуго на это отвечал только: «В Дармштадте нет полей, и в окрестностях тоже».
И Ида, и Хайдемари не только пережили роды, но и превосходно себя чувствовали. Хуго звал в крестные меня, но Ида предпочла Фанни.
Интересно, а ведь, наверное, Хайдемари и привезет ко мне своего папочку. Ей, между тем, шестьдесят шесть, и в пятьдесят она уже стала седой.
Я уже говорила, что Хуго рано женился, рано стал отцом и младшим совладельцем семейной фирмы, но вообще-то он сам еще толком не знал, чего ему в этой жизни хочется. Видимо, пара лет в академии не прошла для него даром. В результате составить ему компанию могла разве что я одна.
Отдел дамской обуви в отцовском магазине был самым большим, с отдельной кассой. Меня, из педагогических соображений, папуля хотел определить в зал детской обуви, но потом позволил мне выбирать. Может, ему не давала покоя совесть. Я предпочла дамский отдел, потому что отсюда можно было без труда переглядываться с Хуго. Когда фройляйн Шнайдер исчезала в мужском отделе, а папа — в бюро, я, чтобы произвести впечатление на Хуго, пыталась сбыть покупателю какой-нибудь сильно залежавшийся на полке товар или вообще что-нибудь совсем ему не подходящее.
Однажды в магазине появилась моя старенькая учительница, фройляйн Шнееганз. Она радостно приветствовала меня и, сопя, опустилась рядом на скамеечку.
Ей нужны были черные туфли, которые шли бы к туалетам серых тонов, удобные и долговечные, не обязательно самые модные и чтобы стоили не целое состояние. Я принесла пару таких туфель, а еще несколько диковинок: красные туфли, в которых ходят на танцы, лакированные и плетеные лодочки, вечерние туфли на высоких каблуках и римские шнурованные сандалии. Сначала учительница понимающе улыбнулась: «Кажется, у тебя еще не слишком много опыта, Шарлотта». Но я уговорила ее хотя бы примерить желтые летние ботиночки со вставками из черной крокодиловой кожи. Это был экстравагантный экземпляр из коллекции мягкой кожаной обуви ручной работы. Я изобразила восторг, подмигнула Хуго, и он тоже рассыпался в комплиментах: «Ну до чего же элегантная ножка, и как подчеркивает ее изящество эта уникальная обувь!» Пожилая дама была смущена. В конце концов она покинула магазин в желтых ботинках, а мы хохотали чуть ли не до обморока.
А на другой день она заявилась снова и, не здороваясь, потребовала моего отца. Она вернула ботинки и обо всем ему наябедничала. Папуля в глубине души тоже повеселился, он училок терпеть не мог. Но для проформы все-таки прилюдно отругал меня. Однако отцу пришлось задуматься, когда фройляйн Шнееганз стала настойчиво рекомендовать ему снова отправить меня в школу.
В одном из складских помещений до потолка громоздились стеллажи, среди которых мы, когда выдавалась свободная минутка, играли в салки и прятки. Как-то нас застала за этим занятием фройляйн Шнайдер: доносить отцу она не стала, но нам устроила приличный разнос. Да… Другие мы были, не такие, как нынешняя молодежь: нам гораздо раньше пришлось зарабатывать на жизнь, но зато мы дольше взрослели душой. Я смотрю на нынешних отпрысков благополучных семей, как долго они живут за счет родителей, но при этом совершенно самостоятельно путешествуют по всему миру, преспокойно живут с теми, кого любят, но живут в мире без будущего. И уж не знаю, кому из нас лучше.
Альберту, конечно, сейчас было бы лучше. Каждый раз, когда я о нем думаю, мне становится стыдно, я чувствую себя виноватой. Он любил, когда взрослые рассказывали о его рождении. А дело было так: в детской старшие братья и сестры (кроме меня и Фанни — нас отправили к бабушке) самозабвенно играли в «гибель „Титаника“». Знаменитый корабль изображала детская колыбелька, приготовленная для еще не родившегося Альберта. Взрослые за детьми не следили, мама мучилась рядом в спальне. Когда же наконец Альберт появился на свет, служанку послали за детьми. Она обнаружила опрокинутую кроватку, груды белых подушек, изображавших айсберги, и трех «утопающих», истошно вопящих о помощи. Ну и досталось же им: «Младший брат пробивается на свет божий, а они такое устраивают!» И тогда они все страшно разозлились на того, кто прервал их игру.
Альберт любил об этом слушать. И даже уверял нас, что ему грозит смерть от воды. А потом сделал так, чтобы это не сбылось.
— Ну, бабуля, что у тебя здесь «горит»? — спрашивает Феликс. — Ты наконец-то справилась с моим автоответчиком.
— Подумаешь, что ж тут сложного, это каждый ребенок умеет. Слушай, скажи честно, как тебе моя квартира?
— А не нанять ли тебе горничную, бабуля? — осторожно отвечает внук.
— Не люблю я чужих в своем доме, сам знаешь. Кроме того, сначала надо покрасить и обои поклеить, а потом грядет весенняя генеральная уборка.
До моего внучка наконец доходит, зачем я его заманила.
— Хуго меня навестит, — объясняю я, — это повод, но не причина.
— Хуго? А кто это?
Нынче молодые люди даже не знакомы с некоторыми своими родственниками.
— Это муж моей покойной сестры Иды, мой зять.
— А, так он тоже уже дедуля, — подсчитывает Феликс.
Я показываю ему коробки с Милочкиным богатством. Не отнесет ли он все это наверх в какую-нибудь дальнюю комнату или, может, найдет барахлу лучшее применение? Он знает, что посоветовать: блошиный рынок.
Феликс плюхается в кресло и пихает в бок Хульду:
— Ну, что, старушка, как вы тут с бабулей поживаете? Феликс частенько приносит мне из своего общежития то, не дай бог, взъерошенных дворняжек, а то охапки каких-нибудь растений. Букетами эти вязанки не назовешь, они по большей части состоят из веток, которые он наломал где-нибудь по дороге. Впрочем, они такие роскошные, и я ставлю их в серо-голубой горшок, где обычно храню огурцы. Получается даже красиво. Феликс прирожденный декоратор. Замечательная стройная композиция, так и веет весной: крошечные почки сирени, фиолетовые с коричневатым отливом (правда, они никогда уже не распустятся), молоденькие листочки клена, светлые, не то зеленые, не то желтые, белые цветочки на изогнутых вишневых прутиках, сережки вербы, отливающие оливковой зеленью, темные побеги бузины и даже ветка черной смородины.
— Зеленый цвет успокаивает усталые глаза, — говорит мой милый мальчик и хватается за телефонную трубку. Часа не прошло, как он сколотил компанию рукастых студентов, которые уже утром начнут тут все убирать. — А тебе бы лучше на пару дней куда-нибудь уехать, — предлагает Феликс.
Но мне что-то не хочется уезжать. У сына моего Ульриха никогда не хзатает на меня времени, и если я приеду к нему, его из-за меня замучит совесть. Дочь моя Регина, мать Феликса, в разводе, много работает, и у нее неуютно. А Вероника и вовсе в Америке. Дороговато будет для двухдневного визита.
— Я останусь здесь, солнышко, вы же не собираетесь разворотить все комнаты разом.
— Ладно, бабуля, но тогда придется тебе готовить еду для моих друзей, — подначивает меня Феликс: знает же, что с этим я завязала раз и навсегда. — Какого цвета будем стены делать? Белые под штукатурку, белые как снег или цвета легкой бледности покойника?
— Цвета яичной скорлупы. — Это мое окончательное решение.
— А со вторым этажом что?
Я отрицательно качаю седой головой.