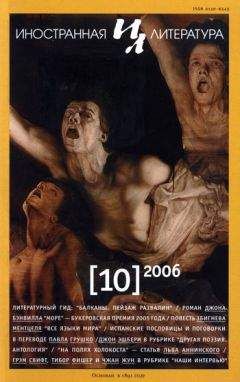Увязалась за мной, когда в первый раз отправился сюда, в Баллилесс, после того сна — ну, про то, как иду под мокрым снегом домой. Побаивалась, видно, как бы я утопиться не вздумал. Не знает она, какой я трус. Что называется, тряхнули стариной — издавна были большие любители покататься. Еще когда она была совсем клоп и не могла ночью заснуть — изначально страдала бессонницей, вся в папочку, — я кутал ее в одеяло, совал в машину и вез далеко по дороге вдоль меркнущего моря, бормоча все подряд песенки, в которых хоть с пятого на десятое помнил слова, но вместо того, чтоб баюкать, они ее приводили в восторг, и она хлопала в ладоши, после чегстс новой силой принималась реветь. Как-то, потом уже, мы даже вздумали отдохнуть на колесах, парочкой, — большая ошибка, ей, подростку, мигом осатанели виноградники, дачи, моя компания, и она жутко меня доставала, пока я не сдался и раньше времени ее не отвез домой. Наша поездочка сюда оказалась не сильно лучше.
Был роскошный, ох, прямо-таки роскошный осенний день, — собрав всю медь и золото Византии под лазурной глазурью небес Тьеполо, он стоял, на себя не совсем похожий, как хрустальный, как собственное отражение в ясной воде. В такие вот дни с некоторых пор солнце для меня — сальный глаз, с наслаждением посматривающий, как тут корчусь от горя. Клэр была в замшевом просторном пальто мышиного цвета, от него в автомобильном тепле пованивало чуть заметно, но безошибочно плотски, и я терзался, хоть, конечно, ни звука ей не сказал. Вообще, я страдаю — как бы сказать? — слишком острым восприятием, что ли, той смеси запахов, которые идут от людей. Ну, может, страдаю — не то слово. Люблю же, например, буроватый запах женских волос, когда их пора помыть. От моей дочери, брезгливой старой девы — увы, не сомневаюсь, мужа ей не видать — обычно ничем не пахнет таким, чтоб я уловил. Опять-таки — не в мать, чей грубый дух, а для меня томный запах самой жизни, крепчайшими духами не перебить, перво-наперво меня приманил тогда, в тот баснословный год. От моих рук теперь, даже страшно, пахнет чуть-чуть похоже, пахнет ею, не отделаться, как их ни тру. В последние месяцы от нее пахло в лучшем случае фармакопеей.
Когда приехали, я даже удивился, что деревня еще сохранилась в общем такой, как я помнил, пусть на глаза, какие знают, куда смотреть, то есть на мои глаза. Вот как встречаешь старую пассию и в набрякших чертах угадываешь нежный облик, какой когда-то любил. Миновали заброшенную платформу, вкатили на мосток — уцелел, тут как тут, голубчик! — что-то, как раньше, сорвалось у меня под ложечкой, что-то покатилось внутри, и вот — просияло: дорога, и берег внизу, и море. Есть минуты, когда прошлое набирает такую силу, что кажется — сотрет тебя в порошок.
— «Кедры»! — хрипло крикнул я. — «Кедры»! — По дороге я успел рассказать ей все, ну почти все про «Кедры». — Где они жили!
Она извернулась на сиденье, глянула.
— Чего ж не остановился?
Что я мог ответить? Что меня парализовала робость — вдруг, посреди затерянного мира? Я прорулил дальше и свернул на Береговую. Береговое Кафе исчезло, сменилось большим приземистым зданием, редким уродом. А вот и две гостиницы, поменьше и пооблезлей, конечно, чем их сберегала память, и над гостиницей «Гольф» важно реет огромный флаг. Даже из машины я слышал, как пальмы мечтательно плещут сухими листами — звук, который в лиловые, летние, давние ночи сулил все чудеса Аравии. Сейчас, в смуглом свете октябрьского вечера, — уже потягиваются тени, — все блеклое, как на старинной почтовой открытке. Бакалея Майлера (плюс почта, плюс паб) разрослась аляповатым супермаркетом с асфальтовой парковкой для покупателей. Я припомнил, как в тихий, пустой, от солнца слепой день полвека назад здесь, на гравийной дорожке у Майлера, меня встретил мелкий, невинного вида пес, когда я протянул к нему руку, ощерился, — что я ошибочно счел любезной улыбкой, — с редким проворством сощелкнул челюсти у меня на запястье и убежал, ухмыляясь, или так мне казалось, а когда я пришел домой, мать меня костерила за глупость — тянуть руку к эдакой твари! — погнала одного к местному доктору, и тот, светский, лощеный, кое-как наложив пластырь на мою приятно розовеющую вздутую цевку, мне велел догола раздеться и сесть к нему на колени, с тем чтобы он, удивительно белой, пухлой рукой с маникюром жарко давя мой живот, мог меня научить, как правильно надо дышать. «Распусти живот, не втягивай, понял?» — ворковал он, приникая мягким, большим жарким лицом к моему уху.
Клэр бледно усмехнулась.
— И какой же след оказался прочней — от собачьих зубов или от докторской лапы?
Я ей показал руку, где на запястье до сих пор белеют два шрама от свирепых собачьих клыков.
— Тут тебе не Капри, — сказал я. — Да и доктор был, извини, не Тиберий[7].
Но если честно, об этом дне у меня сохранились самые теплые воспоминания. Так и помню — запах послеобеденного кофе от доктора, бегающие глазки экономки, изучающие меня на крыльце.
Мы с Клэр добрались до Полей.
Собственно, теперь никакие это не поля — жалкие участки, один к другому впритык, с дачками, тяп-ляп понастроенными левой ногой того же умельца, подозреваю, который ответствен за уродов в глубине сада. Однако я рад был отметить, что местечко, при всей своей пошлости, носит названье Люпины и что строитель — ведь был же строитель — даже пощадил высокий подрост этих скромных диких кустов — Lupinus Papilionaceae, я проверял, — подле комически величавых, ложноготических ворот у въезда с дороги. Вот под такими точно кустами отец, выбрав ночь потемней, с фонариком и лопатой, чертыхаясь себе под нос, раз в две недели выкапывал яму в мягкой песчаной земле и захоранивал ведро помоев из нашего биосортира. Едва поймаю слабый, странно человеческий запах люпинов — меня настигает вкрадчивый, сладкий дух нечистот.
— Ты вообще-то собираешься остановиться? — простонала Клэр. — Меня скоро от этой машины стошнит.
С годами во мне крепнет иллюзия, что дочь меня догоняет по возрасту, так что сейчас, например, мы с ней примерно ровесники. Видимо, это неизбежно, когда имеешь столь продвинутого ребенка — продолжала бы свое дело, ей светила такая карьера ученого, какая мне и не снилась. И еще: меня она раскусила до такой степени, что даже страшно, и не склонна прощать моих бзиков и крайностей, как прощают те, кто меня хуже знает, а потому больше боится. Но я обездолен и уязвлен, я нуждаюсь в снисхождении. Если есть формула отпущения грехов поразвернутей — ничего мне больше не надо. Оставь ты меня в покое, — воззвал я к ней без единого слова, — дай мне проскользнуть мимо старых поруганных «Кедров», мимо стертого Берегового Кафе, мимо этих Люпинов, мимо бывших Полей, мимо всего, что было. Не то растекусь позорнейшей лужей слез. Тем не менее я кротко прижался к обочине, и она вышла в злобном молчании и так хлопнула дверцей, будто мне надрала уши. И что я ей сделал, чем уж так насолил? Иногда на нее находит — вылитая мать.
Но вдруг, против всех вероятий, из-за гномических построек Люпинов глянула на меня дорога к Дуиньяну, вся, как и прежде, в ухабах, бойкой иноходью труся между косматым боярышником и пыльной стеной куманики. Как она устояла под напором кранов и грузовиков, как снесла надругательства бульдозеров и лопат? Здесь я в детстве каждое утро ходил, босой, с побитым бидоном, за молоком к Дуиньяну, молочнику, и его стоически веселой, задастой жене. Помню, солнце уже высоко, но холод еще затаился в булыжниках, и куры, поджимая лапки, жеманно переступают между собственных зелено-меловых катышков. Собака, всегда привязанная к передку телеги, оценивающе наблюдает, как я пробираюсь на цыпочках, чтобы не вляпаться в куриный помет, а мышастый коняга, подойдя изнутри к двери денника, кладет на нее морду и весело, искоса смотрит на меня из-под челки точно того же оттенка, как дымно-бежевые цветки жимолости. Я не стучался в дом, я боялся матери Дуиньяна, старой, низкой, квадратной, как стол на коротких ножках, — она сопела, пыхтела, свешивала над нижней губой огромный, мокрый, бледный язык, — и дожидался в лиловой тени денника, пока хозяин или его половина меня избавят от встречи с каргой.
Дуиньян был долговязый болван, с соломенными жидкими волосами и невидимыми ресницами. В миткалевой открытой рубахе, каких уже тогда никто не носил, в вислых штанах, сунутых в заляпанные резиновые сапоги. В погребе, наливая мне молоко, он похабно-сиплым тоненьким голоском — скоро он умрет от болезни горла — наводил разговор на девочек: он-то знает, у меня есть подружка, интересно только, разрешает ли себя целовать. А сам не отрывает глаз от длинной тонкой струи молока, стекающей в мой бидон, улыбается, быстро-быстро хлопает этими своими ресницами. Какой ни противный, чем-то меня он притягивал. Казалось, что ли, что у него откровенье за пазухой, что вот извлечет оттуда похотливую картинку, приоткроет мерзкое знание, ту зону, куда допускаются только взрослые. Погреб был низкий, квадратный, штукатуреный, белый до жути, даже впадал в синеву. Маслобойки стояли стальными коренастыми часовыми в плоских шляпах, и солнечный сноп от двери всем раздавал одинаковые белые ордена. Большие низкие чаны с молоком, кутаясь в марлю, задумчиво ждали на полу сепарации, и была еще старинная деревянная маслобойка, я всегда мечтал застать ее в деле, но так и не вышло. Прохладный, густой, потаенный дух молока наводил меня на мысль о миссис Грейс, и даже меня подмывало сдаться на подходцы Дуиньяна, ему про нее рассказать, но я удерживался — правильно делал, конечно.