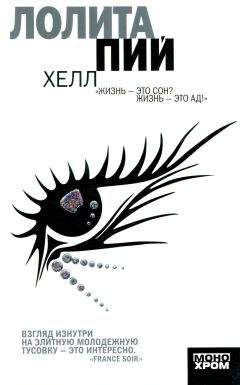— …
— Слушай внимательно, девочка моя. Ты просто прелесть, ты лучше всех, поверь, я много чего насмотрелся. Просто мне пятьдесят, на мне агентство, и соцобеспечение не по моей части. В этом подлом мире ничто не дается даром, и чтобы попасть ко мне, придется мне дать. И даже после этого я могу тебе сказать, что твои труды пропали даром. Алло?
Пока он говорил по телефону, я прикончила бутылку.
— Дорогая? Что случилось? Что? Нет, Сибиль, положи нож. Положи нож на место. Сибиль, дорогая, ты же знаешь, у тебя не выйдет, а потом у тебя будут некрасивые шрамы на запястьях. Шрамы — это очень некрасиво. Сибиль, черт возьми, сейчас три часа дня, что на тебя нашло? У папы деловая встреча. Знаешь, дорогая, а вот это называется шантаж, ты даже не знаешь, как резать, вдоль или поперек. И пожалуйста, не пытайся меня учить, как кончать с собой. Между прочим, я десять лет был женат на твоей маме. Окей, окей, сейчас приеду. Никуда не уходи, сиди тихо. Я еду. Вот именно, тогда сначала ты сможешь убить меня. Еду. Пока.
Он нажал отбой, и мне было его искренне жаль.
— Что, бутылка пустая? — сказал он, схватил мой стакан, выпил залпом и добавил: — Мне надо бежать, небольшие семейные проблемы. Подумай о том, что я тебе сказал, и перезвони. Окей? Ты само совершенство, ничего не меняй. Особенно шорты, ладно? До скорого.
Он бросил деньги на стол и выбежал на улицу. Какой-то хмырь в костюме подошел к столику забрать деньги.
— Стойте! Вам официантки нужны? — сказала я.
И он взял меня на работу, потому что я была подружкой Жоржа и потому что носила симпатичные шорты. Славный чел этот менеджер, я его так и называла — «Славный чел». Не просто дал мне работу, а еще и подыскал квартирку, через какого-то своего друга, «спеца по недвижимости». Друг сдавал однокомнатные квартиры по ценам вне всякой конкуренции. Двести евро в месяц — совсем недорого, даже для меня. Мебель тоже была вне конкуренции. Я жила в IX округе, в мансарде. Мне нравились балки на потолке и вид из окна. Сортир на лестнице нравился меньше. И отсутствие горячей воды. И электрические конфорки, которые включались через раз. Дом был старый и величественный. Недалеко от ресторана. Меня будил рассвет. И незаметно жизнь вошла в будничную колею. От парижской комнаты до Trying So Hard — каждый день метро: «Сен-Лазар», «Миромениль», «Сен-Филипп-дю-Руль», а когда я выныриваю из станции «Альма-Марсо» — вечный саксофонист, играющий «Жизнь в розовом свете», витрины магазина «Шанель», о котором постоянно твердила мама, одни и те же часы работы, одни и те же посетители, одни и те же блюда и, время от времени, любезности старшей официантки: «Манон, дамочка за шестнадцатым ждет свое красное целых полчаса, шевели задницей, дура!» Иногда после работы я шла в кино, листала какой-нибудь журнал на террасе кафе на Елисейских Полях, искоса бросая взгляд на туристов, взгляд парижанки. Когда чаевых было много, покупала себе пару туфель или чуть-чуть косметики. Копила на телевизор. Однажды пила кофе еще с одной подавальщицей из Trying, но она оказалась слегка свихнутая: считала себя реинкарнацией императрицы Сисси и думала, что это откроет ей дорогу в кино. На том все и кончилось, а жаль, приятно поговорить хоть с кем-нибудь. Добрый десяток раз у меня на улице просили номер телефона, а когда я отвечала, что живу без телефона, меня обзывали. Глупости, конечно, но я плакала. К счастью, однажды я нашла под банкеткой чей-то телефон и купила симку. Теперь всегда хожу с мобильником у уха и болтаю все, что придет в голову, как будто на том конце кто-то есть.
Меня чуть не уволили за то, что я отбилась на кухне от приставаний Славного чела, я дала ему новое имя, «Скот», и немедленно перестала носить шорты. В любом случае близилась осень, и я слегка пощипала свои скудные сокровища — надо было купить одежду потеплее.
Мне нравилась моя улица в IX округе, маленькая улочка, пересекавшая улицу Амстердам. Кругом ослепительные неоновые вывески и оглушительный шум, по воскресеньям все открыто, по ночам тоже. На моей улице была булочная, бакалея, прачечная, китайская кулинария, бистро, дешевая гостиница и книжная лавка. По вечерам, если была не моя смена, я заходила купить что-нибудь на ужин, потом забрать белье, взять сигарет на ночь, а потом выбрать себе книжку.
Букинист выглядел как самый настоящий букинист: всклокоченный старикан в очках, пыльный, как его лавка. Когда я зашла в первый раз, то спросила какой-нибудь любовный роман вроде тех, что обычно читала на Конечной, но он сказал, что ни за что не продаст мне эту гадость, эту розовую водичку. Посоветовал несколько книжек, я купила три, остальные он подарил. Так я открыла для себя Хемингуэя, Карсон Маккаллерс, «Графа Монте-Кристо» и детективы Дэшила Хэммета — все вперемешку. Потом я опять приходила в лавку, мы несколько минут обсуждали книги, он объяснял все, чего я не поняла. Он говорил, что мне надо всему учиться заново, и иногда здорово психовал, но когда заводился по поводу какой-нибудь книги или писателя, я знала: он рад, что я здесь и слушаю его. Как-то я вышла из лавки уже затемно, оставив Гуго наедине с его романом, который он переписывал уже много лет и который не брал ни один издатель; я взяла «Грозовой перевал», он сказал, что это история любви, после которой мне и смотреть не захочется на розовые романы, и я спешила домой, потому что несла под мышкой то, что поможет мне забыть облезлые стены, растрескавшийся потолок и собственное одиночество.
Стояла очень теплая ночь, последний подарок лета, скоро в городе окончательно поселится октябрь и первые заморозки. В открытое окно ко мне на чердак доносился волнами уличный шум, и я отложила книгу: она показалась мне бесцветной и пошлой по сравнению с жизнью, бурлившей внизу. Я встала, облокотилась на подоконник и, с трудом подавляя дрожь внизу живота, любовалась ночным заревом Парижа. В тот вечер город бурлил как никогда: длинные фиолетовые тени вихрем кружились в свете фонарей, отовсюду слышались удаляющиеся шаги и взрывы хохота, рокот автомобилей нарастал, потом затихал вдали, мне казалось, что это ветер и он уносит с собой все, кроме меня, а я, застыв у окна, представляла себе праздник, на который меня не пригласили. Меня не позвали, облили презрением, наказали, исключили. На Конечной и то было легче. На Конечной мне казалось, что жизнь где-то в другом месте. Теперь я сама в этом другом месте, а жизнь по-прежнему течет мимо.
Жизнь… Настоящая жизнь, та, что бурлит за невыразительными, чересчур накрашенными лицами женщин, каждый день заказывающих мне обед, за белыми каменными фасадами авеню Монтень, та, чьей печатью отмечены черты старлеток с журнальных обложек, жизнь богемная, праздничная, жизнь, где есть путешествия, встречи, длинные платья и бриллианты, икра и шампанское, где поздно ложатся и живут по ночам, где ездят слишком быстро и умирают слишком рано. Все это я представляла себе очень смутно, по тому, что читала в газетах, смотрела по телику, по тому, на что за три недели успела насмотреться в Trying So Hard, и на все это накладывалась бесконечная работа моего воображения, желавшего непременно верить во что-то «лучшее», и я, не вполне понимая, куда, собственно, иду, шла и шла вперед, потому что всеми силами, всей душой впечатлительной и обделенной провинциалки надеялась, что в один прекрасный день завоюю эту жизнь.
ДЕРЕК. Сегодня я решил сломать кому-нибудь жизнь.
Я проснулся; было скучно, еще скучнее, чем когда ложился спать, скучнее, чем вчера, чем позавчера и все предыдущие дни, с незапамятных времен, быть может, с детства: тогда, давно, было счастье, надежда, я забыл, как все это пахнет, а потом словно туннель, декрещендо, без возврата, без конца, без просвета, сколько хватает глаз; я зажмуриваюсь, напрягаюсь — нет сил; нет просвета, нет выхода и уже не будет. Что называется, приступ тоски, а может, начало депрессии, а может, просто мне трудно проснуться… Я всегда просыпаюсь с трудом, никак иначе; если и затаилась у меня последняя мечта где-то между воспоминанием о моей бывшей подружке, покончившей с собой, и убеждением, что жизнь абсурдна, что счастья не существует и что из нас из всех, и из меня в том числе, в конечном итоге вырастет лопух, так это мечта об утре, светлом и ясном, как возрождение, когда выныриваешь из десяти часов сна в нормальное время, когда тело отдохнуло, жизнь в полном порядке, на улицах люди, магазины только что открылись, вкус кофе во рту, запах газет, раннее солнце, вступление к «Mellon collie and the infinite sadness», тупые комиксы за завтраком и чувство, что все на свете возможно, потому что все только начинается. Интересно, это бессонница вызывает депрессию или депрессия бессонницу? Я живу в Париже по лос-анджелесскому времени, а в Лос-Анджелесе по токийскому. Зимой я встаю, когда уже темно, и каждый день просыпаюсь с похмелья: похмелье — мое нормальное состояние, и еще я ничего не хочу, разве что снова уснуть.