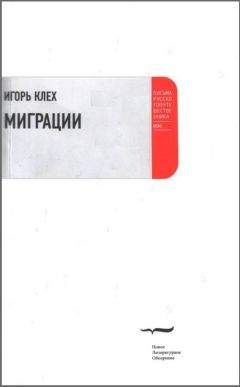Весной 1999 года собиралась уехать и уехала таки в начале мая моя дочь – эмигрировала из Львова в Израиль. После Нового года ее новой родне удалось что-то там доказать в еврейском посольстве в Киеве. Ее свекор был сыном русского коммуниста и еврейки, расстрелянных немцами в Таганроге в войну, – это и было тем, что требовалось доказать, чтобы еще четверо поднялись с насиженного места и отправились в перелет на юг, где не бывает зимы, но нет и злой бедности для стариков, и есть надежда начать новую жизнь для молодых. По существу, я ничем не мог помочь дочери, и потому не имел права препятствовать этому. Я и себе-то не очень мог помочь.
Хотелось только, чтобы дочь все же понимала, на что решается. Она единственная из всех четырех что-то зарабатывала до отъезда платными уроками английского и даже умудрилась выучить иврит. У женщин в нашем роду почему-то всегда были хорошие зубы и способности к языкам
– тогда как у мужчин ровно наоборот. Со своим будущим мужем дочка встречаться начала еще в школе. На мой вопрос, как у них с деньгами, он отвечал по телефону с оттенком обиды:
– Вы же знаете, что я нигде не работаю.
С приятелем он собирал и ездил продавать в Киев громоздкие телефонные аппараты с определителем номера, но выручки едва хватало на дорогу. До отъезда единственный раз он встрепенулся, прочтя подаренную мной книгу «Думай и богатей» одного американца (мне приходилось покупать книги для рецензирования, от которых я потом избавлялся, американец же сам разбогател на тиражах, только когда принялся учить богатеть других). К моему удивлению эта незатейливая книга перевернула жизнь малого – он усвоил из нее одну главную заповедь: научись желать по-настоящему и действуй. И для начала он выиграл в радиовикторине дешевую фото-«мыльницу», чем был невероятно горд.
Его сухого костистого отца судьба закинула во Львов после суворовского училища. Здесь он женился на толстушке, темпераментной и чувствительной галичанке, больше похожей на полтавчанку, заговорил на «мове» и непонятным образом превратился в западноукраинского националиста. Смешно, что в Израиле столь же загадочным образом он очень быстро обратился в местного «ястреба» и никогда не упускал случая отпустить что-то бранное в адрес палестинцев, пока я просил позвать мою дочь к телефону. При знакомстве он рассказал мне, что он бывший метролог, в свое время зачем-то прочел «Улисс» Джойса, а работу в ларьке оставил, когда за водкой по ночам стали являться с огнестрельным оружием – тут уж заточенная арматура, которую он держал под прилавком, не смогла бы ему ничем помочь. А его жена подарила мне наволочку для подушки с украинской вышивкой и неожиданно призналась, что какой-то ловелас разбил ей в девичестве сердце: «Я любила его, а он любил… женщин».
Когда вопрос об их отъезде был решен и разрешение получено, моя дочка переболела воспалением легких. Когда-то я осторожно просвещал ее на счет причины и смысла болезней – но в чем-то таком можно убедиться только на собственном опыте и только глядя вспять. Теперь мне предстояло поехать проститься с моей девочкой, выросшей в семье, в которой женщины уже в нескольких поколениях любили котов больше, чем мужчин.
В город приехала также моя тучная и одышливая мать, и задним числом я понимаю, каким очередным ударом явился для нее отъезд внучки.
Капля камень точит. Мы встретились втроем и попрощались у тетки в старой запущенной квартире на улице Чекистов, выходящей на фасад львовской Политехники и уже как-то переименованной. В полутемных комнатах орало три телевизора. В одной лежал инвалид, в другой сидел безработный бездельник и антисемит, от которого ушли жена с дочкой, в третьей был накрыт стол, а на кухне строгали салаты и варили манты старухи-близнецы. Сырой двор-колодец, облупленный балкон по периметру, на который кто-то выставил фанерный шифоньер и сломанный стул, перегороженная стеной щель между домами, где виден другой такой же двор, только утопающий в зазеленевших кронах старых лип.
Жестяные кровли и верхние этажи залиты ласковым вечерним солнцем, перекликаются скрипучими голосами в небе стрижи. У бабки с внучкой глаза все время на мокром месте. Я сфотографировал на балконе дочку
– и мать с тетками за столом. Потом окажется, что это был последний прижизненный снимок моей матери: редкие волосы, обесцвеченный взгляд в объектив и наведенные яркой помадой губы.
Мне предстояло еще провести ночь в квартире с новой родней дочери накануне отъезда. По-хохлацки много ели и пили, выходя покурить на балкон, где бывшая жена вдруг спросила:
– Ты не хочешь меня поблагодарить за то, что я вырастила тебе такую дочь и не мешала с ней видеться?
Она намекала на мой второй брак. Убывающая прогрессия, но не ей было об этом судить. В ее подкрашенных черной тушью глазах, на разросшемся за прошедшие годы и для кого-то все еще красивом лице, прятался взгляд, исполненный робости, кокетства и дерзости. Словно ей померещилось, что что-то можно вернуть. Это был запрещенный прием, и я ответил ей тем же.
– Знаешь, плата за предательство – смерть. Мы умерли друг для друга много лет назад, и общего у нас сегодня только то, что ты когда-то родила от меня дочь. Ничего больше.
Ее взгляд остекленел, и я почувствовал себя извергом, обидевшим ребенка, но раскаяния не испытал.
Наша дочь находилась всю ночь на грани нервного срыва, и я пытался ее успокоить.
– Ну ты что?! Дело сделано – остается отправиться в путь. Отнесись к дороге как к приключению, ты ведь еще не бывала за границей. А уже через пару дней тебя ждет «вита нуова», постарайся быть в ней сильной!.. Больше всего мне хотелось бы построить когда-нибудь дачный поселок под Москвой, какую-нибудь Кацаповку, куда перетянуть всех близких. Держись, дочка! – И неожиданно добавил: – Будь умницей.
Так обычно говорила мне на прощанье и заканчивала свои письма мать.
Автобус, увозивший целую группу новых эмигрантов в Варшаву, откуда вылетать им чартерным рейсом в аэропорт Бен-Гурион, приехал часов в пять утра. Все забегали, засуетились, забили барахлом багажники и салон, выскочили сфотографироваться напоследок с родней, с толпой бодрящихся друзей и плачущих соседей. Безоблачное небо, обещало жаркий день. Прохладное и солнечное утро начала новой жизни и смерти
– смерти здесь, жизни там. Перегруженный автобус, покачиваясь, вырулил из внутреннего двора на широкую Научную и понесся в направлении польской границы. Остались тишина, легкость и пустота в душе, похожая на счастье уцелевших после взрыва. Я тоже вышел на
Научную, поймал машину и через день поспешил уехать в Москву.
Вот уже десять лет мне снится один и тот же тягостный сон, в котором меняется только состав участников и степень разрухи в родительской квартире или бывшей витражной мастерской: прощание с близкими и не очень перед отъездом навсегда. Близость отъезда бодрит меня, а куча мелких дел и невыполненных обязанностей, отложенных на последний день, угнетает. Пол перед мастерской залит илистым селем, сошедшим с
Цитадели, окно выбито, в родительской квартире щели в полу, разбит унитаз и входная дверь не закрывается, в комнатах неприбрано, какие-то незнакомые люди дожидаются чего-то, а те, которых знаю, ведут себя странно или спят вповалку. Предстоит еще застолье, а я никак не могу вспомнить что-то важное, собраться с мыслями. Греет только, что потерпеть осталось немного. Уехать я уеду еще сегодня – хоть с пустыми руками и только в том, что на мне.
Каждый приезд в оставленный город давался мне все тяжелее. На этот раз он был обклеен афишами Кашпировского: «Я пришел воскрешать живых».
– Ты опоздал, парень! – твердил я про себя, проходя по улицам, знакомым в мельчайших подробностях и так интимно, как можно знать только собственное тело. Бродил и переставал его чувствовать.
Что-то здесь сдохло, как в лесу. Улетучилось куда-то или в никуда все молодое, энергичное и жизнеспособное прежней поры, и покуда не потрудятся родильные щели и не прекратится отток и убыль людей, ничего не изменится. При том что каждый львовский двор походил на детский питомник – обилие молодых мамаш, колясок и пеленок после
Москвы бросалось в глаза. Этот город бывал процветающим и бывал депрессивным, теперь это был омертвелый город. К концу девяностых в
Москве почти исчезли, а во Львове неожиданно появились мертвецки пьяные, валяющиеся прямо на городских тротуарах. Умирание города как живого организма лучше других описал Булгаков, врач и морфинист, – заодно с гримасами «незалежности» на фоне гражданской смуты.
Тысячелетний Киев тогда на пятнадцать лет оказался задвинут на периферию пролетарским и конструктивистским Харьковом.
Оскудела арена городской жизни даже по сравнению с сереньким и кумачовым советским периодом, оттого что однообразие противно природе города и губительно для него. С исчезновением кровожадного имперского идола утратила силу и санкция оправдания собственного ничтожества. Замерли огромные заводы, работавшие на войну и космос, перестали расти спальные районы, пришли в запустение старинные парки и городские кинотеатры, стадионы превратились в барахолки. Кучи разобранной брусчатки и вынутые из мостовой, как жилы, трамвайные рельсы на обочинах. Выгоревшие дома на центральной площади, ренессансные палаццо с зияющими окнами и стенами, подпертыми балками от обрушения. Лужицы жизни плескались теперь только в уютных семейных ресторанчиках, крошечных офисах, редакциях и частных учебных зведениях, да юркие турецкие микроавтобусы для стоячих пассажиров спасали город от некроза тканей. Возникла ночная клубная жизнь, появились сотни открытых заполночь кафе и пивных под каштанами и вековыми липами в теплое время года, но меня не оставляло чувство, что на улицах и площадях города недостает коз, пасущихся овец и домашней птицы, и это время не за горами. Студентом мне хотелось учинить какую-то массовую бучу перед университетом – но теперь и на площадку у памятника Франко, перед старинным парком