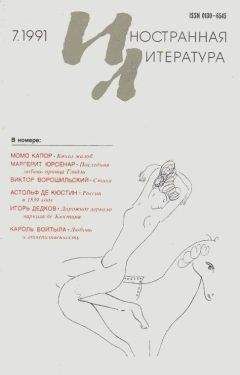Так проходили мои дни, как в каком-то горячечном сне, но вот вечера… Я не решался идти домой и, упав в два составленных кресла, лежал, погрузившись во тьму, которая была и вокруг меня, и во мне самом. Курил, пил и смотрел, как мимо освещённой витрины проходят нетвердым шагом возвращающиеся с ночной попойки. Они пели и целовались прямо перед моим носом, абсолютно не замечая меня; я ощущал нечто подобное тому, что, должно быть, испытывают мертвецы под бетонной плитой, на которой милуется какая-нибудь парочка. Я ждал, что придет Лена. Она, конечно же, не приходила. Видимо, три года со мной были для неё лишь мимолетным эпизодом, и сейчас она, наверное, жила в каком-то совершенно ином мире, среди совсем иных людей. А может, она сознательно обходила стороной эту часть города, эту улицу, этот магазин? Не думаю, чтобы из-за меня она прилагала даже столь незначительные усилия! Скорее, тут действует старый закон, согласно которому даже в самом небольшом городе мы постоянно встречаем лишь людей, нам безразличных, но не тех, кто нам дорог! Не знаю, что чувствует собака, оставшаяся без хозяина, но если она чувствует хоть что-нибудь, то я чувствовал то же самое. Куда бы я ни шел, за мной тянулся невидимый поводок, другой конец которого держала Лена. Днём, уходя с головой в работу, помогавшую выжить, мне ещё как-то удавалось заглушить тоску, но ночью!.. Ночью я начинал понимать, что никогда больше не полюблю, а одному Богу известно, как скучны для меня флирты без любви! Я лежал хмельной, разбитый, брошенный, сражённый, потерянный, жалкий (есть ли ещё какое-нибудь определение для этого состояния?), в аквариуме улицы плавали тени, только её все не было, той волшебной золотой рыбки, которая одна лишь могла исполнить все три мои заветные желания: быть со мной, быть со мной и еще хоть немного побыть со мной!
Я послал ей «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, чтобы разбудить в ней нежность, и «1984» Оруэлла, чтобы напугать временем, которое грядет…
Товарищ Елизавета вошла как раз в тот момент, когда в секретарском кроссворде хрестоматия скрестилась с ономатопеей, египетское божество (Ра) нацепило на себя часть конской сбруи (чересседельник) и при этом получило воспаление семенного канала (эпидидимит) после купания в реке (По), которая, как ни странно, текла по вертикали! Товарищ Елизавета вошла реши тельным, энергичным шагом, с гордо поднятой головой, похожая на командующего невидимыми войсками, которые как раз готовятся к торжественному смотру. На её плечи в строгом сером костюме с золотым значком в петлице словно бы давил неимоверный груз ответственности; всё то время, пока она там мужественно сражалась за интересы нашего издательства, мы, трое мужиков, это сразу видно, сидели и плевали в потолок. Плиссированная белая блузка облегала крупные вислые груди кормящей матери. Короткие, полные пальцы, похожие на сырные палочки, с аккуратно подстриженными ненакрашенными ногтями, украшало строгое обручальное кольцо, наподобие тех, какими метят голубей. Ободки слишком тесных туфель глубоко врезались в колоннообразные ноги; густые, коротко остриженные волосы и большая родника на правой щеке, из которой торчит несколько волосков, довершали образ классной дамы, которой по ошибке достался класс малолетних преступников. Я попытался представить её девушкой: её молодость — без эротики. Её жизнь — без пороков. Её туфли — без каблуков. Она гораздо моложе меня, но всё же: стал ли бы я спать с ней? Наверное, с тем же удовольствием я бы трахал какой-нибудь огромный пресный вареник с дряблой консервированной сливой внутри. После того как она в гробовом молчании извлекла из своей бездонной сумки и разложила на столе какие-то бумаги, выдержала длительную многозначительную паузу (предназначенную для того, чтобы мы сами припомнили все свои грехи, начиная от самых давних, еще детских, и до сегодняшних, идеологических), товарищ Елизавета весьма похвально отозвалась о проделанной мной работе, подчеркнув, что магазин уже давно перестал быть убыточным, приносит немалый доход и даже, можно смело сказать, выполняет положительную культурно-просветительную миссию в нашем городе… Она говорила негромко, не поднимая глаз от разложенных шапирографированных материалов, то и дело подчеркивая в них какую-нибудь строчку. Во время своей речи она делала долгие паузы между отдельными словами, точно ожидая, что каждое из них, торжественно произнесённое ненакрашенными губами, в ту же секунду превратится в гранитную статую с решительно поднятым кулаком. Её гнусавый, монотонный голос оказывал усыпляющее воздействие на будущие жертвы, лишая всякой способности к сопротивлению, предваряя смертельный укус богомола. Всё это долгое и утомительное предисловие было лишь обязательным прологом к торжественному ритуалу предания анафеме. Быть жертвой у нас гораздо тяжелее, чем где-либо в мире! Нигде больше от жертвы не требуют, чтобы она сама же аплодировала собственной казни.
— Знаешь что, — сказал я секретарю, — я бы всё-таки чего-нибудь выпил!
Когда я однажды на трезвую голову подсчитал, сколько обычно выпиваю за сутки, то пришел в ужас. И все же я не причисляю себя к пьяницам. Кстати, какая разница между пьяницей и алкоголиком? Не знаю. Однако пьяница по сравнению с алкоголиком мне как-то понятнее, симпатичнее, что ли… Я, правда, никогда всерьёз не пробовал, но думаю, вполне бы мог и не пить. Вот не курить, пожалуй, не мог бы! Тут, возможно, следовало бы вспомнить, как я вообще начал пить, но к чему? Все как-нибудь начинают. Чаще всего чтобы казаться взрослее. Входя в литературу, я входил в кафаны, полные пьяных литераторов. Как и остальные начинающие, завоевывал их благосклонность тем, что время от времени за них расплачивался. Почему они столько пили, словно задавшись целью поскорее свести счеты с жизнью? Когда я сегодня думаю о тех далёких временах, мне кажется, что по причине тонкого душевного склада они просто не могли вынести окружавшую их грубость и ложь. Надо полагать, им грозило классическое шизофреническое раздвоение личности, и, чувствуя это, они пытались с помощью алкоголя как-то склеить две половины своей души. Государство ждало от них здорового, конструктивного искусства, провозгласив их «инженерами человеческих душ», в то время как голая правда жизни врывалась в их поэзию, разбивая официальный оптимизм. Пока они молчали, публично выказывая свою благонадежность, они могли пользоваться определёнными привилегиями прогрессивных художников, но стоило им хоть на мгновение уступить внутреннему порыву, заставлявшему писать еретические сочинения, как их сразу же наказывали устранением из общественной жизни. И вот, зажатые между догмой, с одной стороны, и своим инстинктом художника с другой, между страхом отлучения и жаждой свободы, наиболее ранимые среди них обнаружили случайно забытую щель, единственную лазейку в чётко продуманной системе — вино!. Ведь ни один даже самый жестокий режим не рассматривает пьянство как диверсию, считая его скорее болезнью, простительным пороком слабых. Благодаря этому многие писатели получили своего рода индульгенцию. Изображал ли Гамлет сумасшествие или действительно был безумцем? Во всяком случае, веди он себя разумно, как остальные при дворе, ему бы ни за что не дожить до последнего действия. («Если это и безумие, то в своем роде последовательное…» В нашем народе пьяница спокон веку имел статус божьего человека. Недаром говорят: «Пьяного да малого Бог бережет!» Это все равно как голубь на площади: нельзя его тронуть, чтобы не навлечь на себя всеобщего осуждения. Отношение к пьяным всегда было самым снисходительным. Они, подобно придворным дурачкам, спокойно могли резать правду-матку в глаза сильным мира сего, за что любого трезвого в один миг отправили бы на каторгу. Отказавшись добровольно от участия во всеобщей гонке, пьяницы оказались так низко на общественной лестнице (вернее сказать, вообще вне её!), что для властей предержащих стали недочеловеками, на которых смотрят с благосклонным сочувствием. Мне приходилось несколько раз наблюдать, как бывшие именитые полицейские чины, суровые люди с неспокойной совестью, чуть ли не с мазохистским удовольствием позволяли в кафане пьяным поэтам оскорблять себя при всем честном народе. Они терпеливо сносили поношения, сами не давали официантам вышвырнуть нахалов вон, даже заказывали для своих хулителей вина, чтобы как-то их умилостивить. Обидеть пьяного в наших краях считается большим грехом, а если несчастный! к тому же ещё и поэт, редко кто решится тронуть его. Кто теперь помнит боевые победы генерала Ранко Алимпича, начальника Военной академии, члена Государственного совета, командующего добровольческими отрядами от Рашки до устья Дрины, кто помнит прославленного командующего Дринской армией, участника войн 1876–1878 годов, иначе как «душегуба», приказавшего своим молодцам избить Джуру Якшича? В истории сербского народа он остался как человек, не стерпевший оскорбления от пьяного поэта! У внуков начальника белградской полиции Божи Максимовича тоже нет оснований особенно гордиться своим дедом, выславшим в 1925 году из столицы за бродяжничество горемычного поэта Тина Уевича…