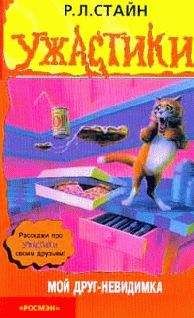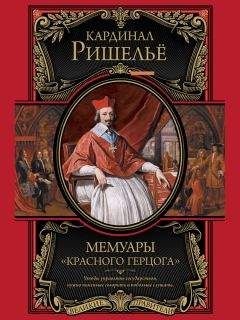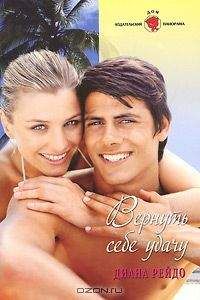— Очень сожалею, — пробормотал Нкоси.
Она гордо вскинула голову и глубоко вздохнула. Затем в упор посмотрела на него. Лицо ее было исполнено горечи и суровости.
— Я не искала вашей жалости.
— А я и не выказывал ее. Я родился в этих краях, и мне хорошо известно, что в вашем, как вы выразились, муравьином существовании в какой-то степени повинны и мои сородичи. Я очень сожалею об этом. Только и всего.
Он повернулся и направился к двери, откуда доносился шум льющейся в ванну воды. Он был зол и в то же время подавлен: зол на себя и свой народ, на женщину и ее народ; его раздражало это сравнение с муравьями. Охватившее его уныние было глубоким и безграничным. Он резко захлопнул за собой дверь ванной комнаты, разделся и погрузился в теплую воду. Постепенно он успокоился, раздражение прошло, но уныние осталось. Он мылся быстро, потому что очень хотелось есть. По-видимому, сейчас он увидится с доктором и договорится о том, чтобы его скорее отправили из этого дома и этой чертовски унылой страны. Чем быстрее, тем лучше. Он взял со спинки стула полотенце и под ним обнаружил свежевыстиранную рубашку и фуфайку. Он мысленно воздал должное женщине. Мрачное настроение не мешало ей быть внимательной и предупредительной. Он быстро побрился, оделся, вымыл за собой ванну и сошел вниз.
Дом ничем не отличался от домов других преуспевающих врачей. Нкоси не успел спуститься с лестницы, как из крайней справа двери появилась уже знакомая ему женщина.
— Пожалуйте сюда. — Она ждала его у входа. От вида и запаха пищи у него потекли слюнки. Он повеселел. Женщина смотрела на него дружелюбно. И когда улыбнулась ему, две портившие лицо морщины как по волшебству разгладились, и она сразу стала моложе и привлекательнее. — Теперь мой черед извиняться, — сказала она. — Я не хотела быть злой. Но, вы знаете, мы и в самом деле живем как муравьи. И у нас такая же, как у муравьев, система предупреждения об опасности. Нам сообщают о приближении врагов обычно за час до их появления. И так же, как в муравьином мире, всегда находятся люди, готовые принести себя в жертву во имя масс.
Нкоси успокоился и больше не чувствовал никакой неловкости в обществе этой женщины.
— Спасибо за рубашку и свитер. Как приятно надеть после ванны чистое белье!
Они вошли в комнату, и тут его ждало разочарование. В комнате никого не оказалось, и стол был накрыт на двоих.
— А доктор? — спросил он.
— Все еще в Йоханнесбурге, — ответила она. — Должен был вернуться, но позвонил, что задерживается и будет только завтра. У него все в порядке. То, что вы привезли, благополучно доставили на место.
— Ну и прекрасно, значит, я могу уехать.
— Они хотят, чтобы вы дождались возвращения моего брата.
— Дело сделано, чего еще ждать? Кстати, кто это «они»?
Женщина хотела что-то сказать, но передумала, подошла, прихрамывая, к столу и села.
— Давайте есть, — предложила она. — Попозже придет Найду и все вам объяснит. — Она жестом указала ему на стул.
Стол был уставлен индийскими яствами, которых Нкоси не пробовал с давних пор; здесь было обилие вкусных блюд, в которых удивительным образом сочетаются мясо и овощи, сдобренные, помимо порошка кари, разнообразными специями. Лепешки — роти — были совершенно воздушные, и слоеная хрустящая корочка приятно щекотала рот.
Ее глаза и лицо засветились радостью, когда она увидела, что еда явно пришлась ему по вкусу.
— Вам в самом деле понравилась еда? Или, может быть, вы просто голодны?
— И то и другое. Я никогда не пробовал такого вкусного кари. Даже перед отъездом, в Дурбане. А кари я на своем веку поел немало.
— После двухдневного голодания все кажется вкусным.
— Да, я не ел день, ночь и еще день. — Он вспомнил кошмарную поездку с белым человеком, который решением суда был превращен в цветного, но чувствовал себя по-прежнему белым. — Что вам известно обо всей этот истории?
— О какой? — Непринужденность тотчас исчезла; она сразу же насторожилась.
— Я имею в виду мое появление здесь. — Он был уверен, что ей известно абсолютно все.
— Я знаю лишь, что вы привезли деньги для подполья.
— И больше ничего?
— Больше ничего.
— Вам даже не известно, откуда и как я прибыл?
— Нет.
Он не мог понять, зачем ей понадобилось говорить заведомую ложь и откуда в этой женщине столько затаенной горечи. Очевидно, все оттого, что она калека. Однако надолго ли ее хватит? Ведь это все равно, что не дышать по собственной воле и в конце концов умереть. Разница лишь в том, что организм не допустит такого насилия над собой. В какой-то момент воля ослабнет и инстинктивное желание выжить, желание вдохнуть воздух и потом его выдохнуть возьмет верх. Поэтому даже калека не может годами испытывать сознательно подогреваемую неприязнь.
Женщина, казалось, угадала его мысли; по ее лицу скользнула горькая, насмешливая, чуть презрительная улыбка.
— Вы давно не были в этих краях? — спросила она.
— Давно, — ответил он сдержанно, стараясь не выдать своих чувств. — Очень давно.
— Насколько я понимаю, лет десять?
— Да, что-то около этого.
«Куда она клонит?» — подумал он.
— Когда человек долго живет вдали, он утрачивает связь со страной, — сказала она с некоторой бесцеремонностью.
— Пожалуй, вы правы. Ну и что же из этого следует?
— Я думаю, вы утратили связь со своей страной, — ответила она.
Бог мой! Не иначе, как она собирается читать ему мораль: с чего бы это?
— Как вы изволили заметить, — сказал он, — десять лет — большой срок.
— И, сам того не замечая, человек воспринимает вкусы, взгляды, образ мыслей окружающих.
«Постой, — решил он, — я задам тебе встречный вопрос».
— Что вы хотите этим сказать?
— А то, что сейчас вам было бы преждевременно выносить о нас суждение, потому что у вас нарушились контакты со своей собственной страной и вы можете подойти к ее оценке с зыбких моралистических позиций европейца среднего класса.
Он чувствовал, как закипает в нем злость, злость человека, которого дразнят без всякого к тому повода. Однако он подавил в себе злость, ведь он пользовался гостеприимством этой женщины и находился в положении ее должника. Еда перестала казаться ему вкусной. Он отодвинул тарелку и откинулся назад, его слегка поташнивало.
И вдруг совершенно неожиданно, впервые за все время, она увидела в нем человека, мужчину. До этого момента он был для нее, как все другие африканцы, как все белые, как все цветные, представителем — лицом, представляющим или символизирующим ту или иную расовую группу.
«Это потому, что я обидела его, — решила она. — Он сидит напротив, и я вижу боль в его глазах и почти физически ощущаю ее. Стала бы я себя так вести, будь он белым или даже цветным? Неужели опять эта проблема расы? По ведь ни белые, ни цветные не обходились с нами, как африканцы. В какой степени отвечает он за свой народ? В какой мере я ответственна за дела моих сородичей?»
Она взглянула на него ясным, понимающим взглядом. Высокий лоб, большие глаза, широкие скулы, лицо, резко сужающееся к подбородку… Но, боже, сколько затаенной боли в этих глазах, как сурово сжаты губы… «Надеюсь, он все же понимает», — думала она, хотя и не знала хорошенько, что же именно он должен понять. В отношениях между их народами было слишком много плохого, несправедливого, болезненного.
Опустив голову, она сказала:
— Простите меня, мистер Нкоси. Не по моей воле вы оказались в этом доме, не по моей воле здесь находитесь. От меня нисколько не зависит…
— И от меня тоже, — подхватил он. — И чем скорее я покину этот дом, тем лучше для меня. Я выполнил свой долг, и ничто больше не держит меня здесь.
Женщина вздрогнула, будто он ударил ее по лицу. Потом, после длительного молчания, заговорила осторожно, как бы нащупывая точки соприкосновения:
— Знаете ли, у вас чисто европейский выговор.
«Может быть, теперь наконец мы найдем общий язык, — подумал он, — во всяком случае стоит попытаться».
— Выговор или манеры?
Словно не слыша его вопроса, она продолжала:
— Когда я вернулась из Европы, то чем-то походила на вас.
— Чем же именно?
— Беспристрастием, объективизмом, отчужденностью — любое из этих слов подходит. Вы знаете, что я имею в виду.
«Дело пошло на лад», — подумал он.
— Вы считаете, что все эти качества присущи европейцам?
— Вы преднамеренно искажаете смысл моих слов. А он сводится к тому, что в ваших поступках и ваших речах проявляется самоуверенность, которая не свойственна нам, всем нам, небелым, проживающим в этой стране.
— Когда вы вернулись из Европы? — поинтересовался он.
— В конце пятидесятых годов, — задумчиво проговорила она. — Сперва я поехала в Индию, надеясь обрести там дом, но она оказалась еще более чужой, чем Европа.