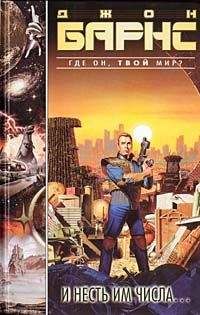— Какая польза от циновок? — вздохнул я.
— Большая, — кивнула Жанна. — Если бы не твои циновки, остров бы зарос тростником. А ты его выдергиваешь. Посмотри, почти все острова вокруг в тростнике, а наш как картинка! Но и это еще не все. Ты держишь маму.
— Держу? — не понял я.
— Держишь в тонусе, — объяснила Жанна. — И отдохнуть ей позволяешь. Ей трудно на Заводе, она много работает. Приплывает домой, а тут ты. И если даже на работе проблемы, дома их нет. Дома одна проблема — ты. Поэтому можно на тебя ругаться, обижаться, кричать, шипеть, бросаться блюдечками…
— Ну, это было всего один раз, — запротестовал я. — И то лишь потому, что я нечаянно разбил мамину чашку, и блюдечко стало ненужным.
— Она разряжается на тебя, и нам меньше достается, — продолжила Жанна. — Мы все ее любимые дочки. Польза самая прямая. Пользы нет только для тебя.
— Стоп, — не согласился я. — У меня от вас всех очень много пользы! Еда, крыша над головой, твердая земля под ногами, ваша любовь…
— Любовь, — задумчиво повторила Жанна. — Любовь — это, конечно, очень интересно. Но где она, эта твоя любовь? Ты спишь в пристройке, в вашей спальне с мамой спит Сонька. Не всегда, но все же. За последние несколько лет мама ни разу ни обняла тебя, ни поцеловала, только щеку подставляет, когда уходит к утреннему катеру, да и то лишь тогда, когда мы на нее смотрим. Это любовь?
Я долго молчал. Потом отодвинул раму с начатой циновкой, посмотрел в глаза Жанны, взгляд которой я не мог выдерживать дольше пяти секунд, и сказал:
— Не хочу смотреть на все через пользу. Она как мутное стекло. Мелочи куда-то исчезают. Остаются только общие силуэты. Да и то… Хочу, чтобы без пользы. Просто так.
— Просто так? — с сомнением повторила Жанна. — Просто так ничего не бывает. Мама так сказала.
— Хорошо, — уцепился я за подсказку. — И я с вами не просто так. Я как смородина.
— Смородина? — не поняла Жанна.
— Ну да, скоро поспеет красная смородина. В палисаднике за пристроем. На грозди много ягод. Но отщипни хоть одну и посмотри. Уже через день она съежится, помутнеет. А остальные будут себе наливаться соком дальше.
— Ты не смородина, — вдруг налилась слезами каменная девчонка. — И мы не смородина. Мы живые. И мы, нет, я, я не хочу чтобы у меня было так.
— Как? — не понял я.
— Как у вас! — хлопнула она дверью.
Иногда я думал, что нужно было уйти. Когда была только Ксюха. Потом, когда появилась черненькая Ольга, я уже не думал об этом. Я не мог себе представить, что где-то буду я, а где-то отдельно будет все еще родная и желанная Лидка с двумя моими детьми. Что та же Ольга без меня начнет сначала переворачиваться, потом ползать, потом сидеть, потом ходить. Что Ольга без меня прочитает первую книжку, что не меня будет мучить бесконечными «почему». Что не я буду вставать ночью, сбивать температуру, укачивать, носить на руках. И что все это будет делать одна Лидка — тоже не мог представить.
Хотя, Серега, когда еще был болтуном, как-то сказал, что главное, чего нельзя делать в семейной жизни, это жертвовать собой.
— Почему? — заинтересовался я словами болтуна, который вроде бы никогда не был женат.
— Потому что второй, тот, ради которого приносится жертва, будет придавлен чувством вины, — объяснил Серега. — А уж если твоя жертва фигуральна, так сказать, и ты в виде домашнего экспоната продолжаешь маячить в поле зрения, готовься к глухой ненависти.
— Я не чувствую себя жертвой, — твердо сказал я. — Может быть, немного неудачником. Да и то! Семь дочек!
— Семь? — почему-то повторил Серега, задумался, потом махнул рукой. — Ты не понял. Не ты жертва. Лидка.
— Она? — удивился я.
— А кто же? — хмыкнул Серега. — Женщина отдает себя, вручает. Можно сказать, доверяется. Мол, неси меня, приятель к светлому будущему через желательно светлое настоящее. Но не успевает она оглянуться, как вдруг оказывается запряженной в тяжелую повозку, на которой сидит ее многочисленное потомство, а рядом идет и понукает ее любимый муженек.
— Я не понукаю, — ответил я тогда Сереге. — И не иду рядом. Я тоже тащу.
— Ага, — со смешком кивнул Серега. — Тащишь. Не понукаешь. Лидка в понуканиях не нуждается. Поэтому ты тоже взгромоздился на телегу и дремлешь на облучке.
Тогда я обиделся. Назавтра пошел к Сереге, чтобы разобраться с его словами. Но Серега пропал. Попал, как оказалось, в белый туман. А когда вернулся, ему уже было не до разговоров.
Я иду домой. Иду на почему-то подрагивающих в коленях ногах домой. Разуваюсь. Прохожу в спальню, в которой не появлялся уже несколько лет. Открываю шкаф, в котором стоят две стеклянные пивные кружки. На одной еще детской Ксюхиной рукой написано эмалью «мама», на другой — «папа». В Лидкиной кружке торчит пачка сотенных, не слишком толстая. И счет за свет. Я выцарапываю из кармана пятнадцать тысяч и кладу их в ее кружку. Потом выхожу на крыльцо, сажусь и смотрю на маяк. До него полсотни шагов. До Лидки — полсотни шагов и двести ступеней с поручнями вверх. А если ей до меня, то вниз. Если бы я остался работать на Заводе, то после смерти Рыжего мог бы занять его место. Меня бы откомандировали. Марка же откомандировали. Но я не остался на Заводе. Не смог. Не захотел. Кем только не работал — и сторожем в Музее, и мастером трудового обучения в Школе, и даже пытался торговать пивом. Ничего не получалось. Нет, с работой проблем не было, денег не получалось заработать. Одному бы хватило, а на семью… Так бы и мыкался, пока Лидка не начала нормально зарабатывать на Заводе сама. Тогда и сказала мне, теребя как-то в руках сделанный мною из тростника ее портрет.
— А попробуй. Может быть и получится что-то такое. Сплети жалюзи рулонные нам в бюро. Вдруг, пойдет?
Пошло. Только недолго. В Лидкином бюро десять окон, а не десять тысяч. Кому нужны жалюзи из тростника? Кому нужны циновки?
Я вспомнил Машу и задержал дыхание.
Почему мы не совпали с Лидкой? Да нет же, совпали. Да, не без шероховатостей, но притерлись же. Не хватило благополучия. Мы словно складывали наше счастье из камня, но камни были не слишком тяжелы, и не было благополучия, чтобы промазать швы, чтобы сложить из этих камней монолит. И счастье пошло трещинами. Если оно было. Нет, нас особо не трясло. Счастье пошло трещинами под действием собственного веса. Накопилось. Что-то такое накопилось. Или растратилось. Да, растратилось. И вот пустота.
«Папа, почему ты не бросишь нас?».
Потому что боюсь показаться самому себе еще большей сволочью, чем чувствую себя теперь.
Дверь маяка открывается, и оттуда выбегает Ксюха в темно-зеленом мамином платье. Пробегает мимо меня и недоуменно хмыкает. Значит, одной из точеной фигурок на пляже была Лидка. Она совсем не изменилась. Такая же как и раньше. Значит что-то изменилось во мне. Из маяка появляется Марк. Он медленно идет ко мне. Останавливается в пяти шагах, достает пачку сигарет, выстукивает одну с пятого удара. Закуривает. Ни капли жира, голубые глаза, подбородок, скулы — как на картинках из журнала мод. Но пальцы чуть дрожат.
— Жениться хочу, — говорит глухо. — На Ксении. Зарплата у меня нормальная. Жить есть где.
— Ну, я-то не Ксения, — улыбаюсь я хорошему мужику Марку.
— Это да, — кивает Марк и медленно бредет обратно к маяку.
Ксюха выбегает из дома через минуту — волосы распущены, купальник — две ниточки — одна с треугольничком, другая с чашечками. Дух захватывает.
— Марк хочет на тебе жениться, — говорю я ей.
— Пусть хочет, — кривит она губы. — А я не хочу замуж. За него не хочу. Подумаешь, смотритель маяка. Двести ступеней. Да и рано мне замуж.
— Тогда зачем ты ходила к нему? — не понимаю я.
— Мало ли, — фыркает Ксюха и бежит в сторону пляжа, оборачивается через пять шагов, бросает. — Поцеловаться, потискаться, потрахаться. Я уже взрослая, папочка.
Я несколько минут прихожу в себя. Потом медленно бреду на пляж. На ходу сбрасываю рубашку. Если не снимать брюки, я все еще неплохо выгляжу. Плечи так уж точно не уже, чем у Марка. Подхожу к Лидке, снимаю лист лопуха с ее лица, наклоняюсь, чтобы поцеловать. Она прячет губы.
Она прячет губы.
Отворачивается.
Если бы у меня было много денег, я бы купил остров. Большой остров. Метров сто на сто. Или бы нанял землечерпалку. Рабочие бы забили бетонные сваи, а землечерпалка намыла бы ил и завалила им пространство между сваями. Получился бы остров с высокими берегами. Так делают некоторые. Находят мель, забивают сваи, правда, деревянные. И начинают намывать ил. Обычными ведрами. Чаще всего это дело затягивается на несколько лет. Бывает, что сваи выпирает из дна, и ил размывается. А некоторые строят из всякого хлама плоты. Но это не для меня. Мне нужно твердое под ногами.