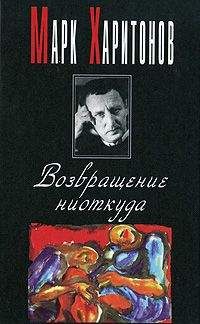Как будто сдвиг ума тоже бывает заразным.
Не знаю, не знаю… Возможно, все это как-то связалось с мыслью о книгах. Их можно было считать не существующими и не имеющими к тебе отношения, пока они отсутствовали в сознательном чувстве. Все справки давно и не тобою наведены, утрата стала привычной, как мысль о чужом умершем, ну, пусть даже и не совсем чужом, все равно теперь ничего не поделаешь, ничего не вернешь, и винить себя не в чем — ведь в самом деле, не в чем. Тем более еще вопрос, велика ли утрата, есть ли на самом деле о чем жалеть, если ничего достоверно о ней не знаешь. Она привыкла к их несуществованию. Дурацкая находка, пустая, в сущности, бумажка, подобранная в грязи, вдруг словно материализовала до сих пор бесплотное. Она могла означать, что по меньшей мере какая-то часть бабушкиных книг продолжала невыясненным образом существовать где-то здесь, в городе, может, прямо под нами же, в подвале, в макулатурной преисподней, которая не случайно притягивала глупое мое любопытство, и каждую минуту они могли погибнуть, а может, и гибли в эту вот самую минуту, одна за другой; за этим листком мерещился как бы чей-то голос, голос предсмертной жалобы и упрека. Не знаю… возможно, было задето еще и какое-то профессиональное чувство, что-то вроде библиотечной совести — много ли надо, чтоб заработало привычное воображение?
То есть я не мог знать, думала ли так она, не мог знать, какие мысли перебродили в ней за ночь; для начала я по обыкновению лишь переносил на нее собственные свои фантазии — слишком легковесные, как стало ясно уже вскоре; она ведь и сама еще себя не вполне понимала. Я даже не мог вспомнить потом, взяла ли она у меня этот листок себе сразу же вечером, или же это случилось на другой день, перед работой, — но когда, заглянув утром в библиотеку, я увидел его в маминых пальцах — вдруг словно что-то замкнулось.
Это запечатлелось, как отчетливая картинка: она сидит за столом над длинной полоской ватмана, по которой начала выводить плакатным пером, красной и зеленой тушью: «Любите книгу — источник…» За спиной желтые каталожные ящики; перо отложено в сторону, в пальцах знакомый листок, лицо обращено к окну, за которым пожилой верзила-макулатурщик открывал замок на дверях своего подвала. Никаких слов произнесено не было, но что-то вдруг будто возникло само на пересечении наших взглядов или наших мыслей: мама вдруг порывисто поднялась, накинула пальто поверх рабочего синего халата и выбежала во двор. Очередь, дежурившая возле своих приношений, не сразу даже среагировала, когда она решительной, как бы вдохновенной походкой прошла мимо всех внутрь (втягивая за собой меня) с этим единственным листком в руке, точно пропуском, дававшим нам непонятное право.
Конечно, это был нелепый порыв. Даже я уразумел это прежде, чем мы смогли по-настоящему оглядеться. Понадобилось время, чтобы глаза после уличной яркости сравнялись с полумраком: макулатурщик закрыл за нами обитую жестью дверь, отсекая начавшийся снаружи ропот. Он переводил озадаченный, даже встревоженный взгляд с маминого лица на мое, потом на листок со штемпелем несуществующей библиотеки. Необходимость смотреть на него снизу вверх делала мамину осанку особенно горделивой и строгой. Он возвышался над ней, как кипа бумажного старья рядом с библиотечной книжкой: под телогрейкой тоже рабочий халат, только нечистый и посеревший, щеки в серой щетине, которая никак не становилась бородой. Чувствовалось, он еще не может взять в толк, о каких книгах говорит эта женщина, он явно пытался уловить за ее словами другой, более понятный нормальному разумению смысл. Возможно, он принял маму то ли за кого-то из жалобщиков, то ли — скорей — даже за официальное лицо, явившееся по поводу жалобы, иначе вряд ли бы она осмелилась — да просто не смогла бы — войти сюда запросто, помимо бдительной очереди, без законного номера на руке, и разговаривать с ним не так, как другие, пропущенные через этот подвал (а он, может, пропустил мимо себя и запомнил цепким опытным взглядом едва ли не всех здешних жителей, знавших, в отличие от нас, как положено держаться с таким человеком). На всякий случай стоило взять тон осторожный и предупредительный:
— Упаси Боже, мадам, если вы в смысле идеологии, так я стараюсь смотреть, как положено. Согласно инструкции. Чего нельзя, не беру. Не всякое сырье разрешено к допуску, я правила знаю. Кондиция должна соответствовать. Только за всем ведь не уследишь, сами понимаете, обложки-то они снимают, вот такие странички суют, тем более штемпель еще оборвут, а ведь каждую не пролистнешь, в каждую пачку не влезешь, мне план выполнять тоже надо, как вы считаете, это ведь тоже идеология, правильно я говорю?..
Пятна румянца на маминых щеках в этом освещении стали почти черными. Она слушала, как будто в свою очередь понимала, о чем он, а при слове «идеология» даже кивала, точно оно вызывало мышечный рефлекс. Изучающий, цепкий взгляд маленьких глаз существовал между тем как бы отдельно от льющихся слов. Тускло поблескивали во рту пеньки стальных зубов, сточенных почти до корней. Он, пожалуй, уже начал догадываться, что тревога ложная, хотя смысла нашего визита все еще не уяснил (если здесь можно было вообще говорить о смысле), и продолжал теперь скорей по инерции, уже наливая из термоса кофе в стаканчик пластмассовой крышечки, уже расслабляясь и отчасти забавляясь:
— Вы не представляете, что некоторые вытворяют! Чугунную решетку запихнут внутрь пачки, вот так вот, сюда, для веса, какую-нибудь железку потяжелей. Чуть не гирю пудовую. Я вам, если хотите, покажу, у меня целый музей составился. От могильных плит куски. Даже медали военные подсовывают. Народ! За ними глаз нужен да глаз. А то потом за них же доплачивай. Времена-то какие! У покойников зубы золотые выдергивают, читали в газетах? Иной раз даже чистую бумагу несут, представляете? Где достают? Небось на службе воруют. Откуда только не тащат! Если уж так говорить, на кой мне нужна эта их мелочевка? Я у них так беру, из человеческого отношения, раз уж столько стояли.
А то ведь уже грузовиками везут, девать некуда. Какую-то документацию старинную, какие-то архивы, говорят, упраздняют. Из соседних районов просят принять. Всем хочется, еще бы! Вы говорите библиотека! Столько всего понаписано! А ведь еще прибавляют, писатели разные пишут, не переводятся. Я понимаю, конечно, что со своей стороны должен смотреть. В смысле идеологии или допустим, вот, штемпелей. Но как уследить? Как уследить, вы можете мне сказать? Тем более, с транспортом каждый раз проблема, вон какие накопились завалы, неизвестно, с каких времен, а вы еще дальше посмотрите, что делается, там подвал не знаю даже куда идет, я туда за угол сам не заглядываю. Рухнет, не дай Бог, считай себя похороненным. Мне надо, может, за жизненный риск доплачивать. Не говорю уже про бардак с талонами… пардон за выражение. И на меня же потом жалуются. Как будто я обещал. Мое дело маленькое, принять, взвесить, обеспечить наглядную агитацию… вот, полюбуйтесь…
Нам бы, избежав дальнейшего, тут же и ретироваться! — улучить удобную паузу, найти слова, сводящие все к безобидному недоразумению, каким по сути был весь этот нелепый визит, нелепый же, в самом деле — глупей всего было бы сейчас его всерьез объяснять, признаваться, зачем мы сюда в действительности явились… сейчас, когда взгляд, понемногу осваиваясь, все еще не мог различить пределов теряющегося в полутьме хранилища — если здесь были пределы. Как будто мама еще не желала расставаться с надеждой… Или чем-то другим зачаровало ее это зрелище? Груды обесформленного бумажного вещества громоздились вокруг, опасно кренясь над узким проходом, оплывающие, выше головы, торосы уходили за углом в тускло освещенную глубину: многолетние слежавшиеся слои газет со шрифтами давно сопревших новостей, слои магазинных оберток, сплющенного картона, цветных журнальных картинок с лицами погасших звезд, слои школьных тетрадей с невыправленными ошибками, писем к умершим адресатам. Капли влаги отблескивали между черных кирпичей. Голос словоохотливого балагура доносился уже с глухого отдаления; я их обоих не видел, я в задумчивости отстал от экскурсии или ее обогнал. Что-то он продолжал рассказывать про здешние старинные подвалы, в глубину которых давно никто не наведывался, заблудишься, не дай Бог, не выйдешь; неизвестно, как далеко на самом деле они тянутся…
Не голос, а капает со сводов… кап… кап… отзывается размноженным шепотом…
Причудливое сцепление мыслей, бормотание саморазвивающегося сюжета, шелест отделившихся листочков на сквозняке, тянущем из отдаленных глубин, где дозревало до кондиции отборное сырье; производственный процесс начинался прямо там же, внизу, газ разложения или первичной переработки заполнял полости под городом, подъедал бетон фундаментов, вызывая трещины в кладке и штукатурные осыпи…