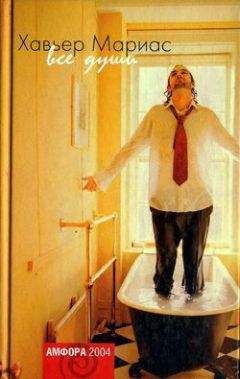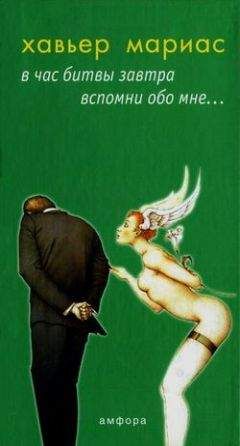На следующее утро после того как мы с Клер сначала узрели его, развалившегося и клевавшего носом в лондонском поезде, а затем, проходя по улицам нашего опустевшего города, услышали позади шаги, его шаги, как нам подумалось, Клер Бейз безмятежно читала газету, когда я вошел к ней в кабинет на Катт-стрит за двадцать минут до условленного времени. (Она отворила дверь, заложив пальцем страницу. Не поцеловала меня.) У нее был такой вид, словно она вполне выспалась, а я всю ночь почти не смыкал глаз, так что не смог подыскать вводных формулировок, перед тем как задать вопрос, который задавал себе много-много раз в течение бессонной ночи (сказала она Теду или не сказала о том, что вчера ночью была в Рединге).
– Разумеется, нет, да он и не спрашивал.
– Ты с ума сошла. Тем хуже. Если еще не знает, непременно узнает от Рука.
– От самого Рука не узнает. Они едва знакомы.
– Здесь все едва знакомы друг с другом, но это никому не мешает заговаривать с кем попало в любое время и выкладывать все, что взбредет в голову. Этому Руку достаточно было просто встретить Теда сегодня утром в коридоре либо на улице. «Да, кстати, передайте супруге, что я собрался вчера вечером предложить ей место в моем такси, довезти от вокзала до дома. Мы приехали в одном и том же вагоне из Рединга, но она вышла так быстро, что я не успел предложить. Как бы то ни было, полагаю, ее проводил наги испанский кабальеро. Он прекрасно воспитан, этот испанский кабальеро, нам случалось перекидываться парой фраз». Вполне достаточно, чтобы заготовить список вопросов, и не знаю, как ты ответишь.
– Какие вопросы? Тед редко задает вопросы. Ждет, чтобы я сама рассказала. Можно не беспокоиться.
Беспокоиться за нее всегда приходилось мне. Я исполнял свою роль, а иногда, заодно, исполнял и роль Клер Бейз. Сейчас я играл все три роли: свою роль, ее роль и роль Эдварда Бейза – или ту, которой сам Эдвард Бейз, если верить его жене, не играл.
– Какие вопросы? «Что ты вчера делала в Рединге с нашим испанским кабальеро? Откуда вы ехали? Почему вы так спешили на вокзале? Вас видел Рук. Почему ты не сказала мне, что едешь в Рединг? Почему не сказала, что была в Рединге? Рук тебя видел. Рук. Рединг».
– Как-нибудь выкручусь.
– Выкрутись сейчас. Скажи мне, как бы ты ответила на эти вопросы. Вопросы конкретные, простые, супружеские.
Клер Бейз была, как всегда, без туфель. Перед моим приходом она сидела, видимо, за письменным столом с газетой в руках (так и не вынула указательного пальца, которым заложила страницу; я подумал, что она там нашла такого интересного), а я стоял, упершись локтями в стекло окна перед ее столом. Оттуда мне видны были ступни, кончики пальцев казались темнее от темных ее колготок, от более плотной части, прикрывавшей пальцы (как там это называется, мысок, что ли?). Ступни, выглядывавшие из-под стола, упирались в ковровую ткань. Меня тянуло потрогать темные пальцы, но в любой момент мог войти Эдвард Бейз или Кромер-Блейк. Клер Бейз видела меня против света. В другой руке держала сигарету. Пепельница стояла на дальнем конце стола.
– Тед может войти с минуты на минуту, – сказал я, – и если он встретил Рука нынче утром, может задать все эти вопросы, как только откроет дверь. Нам лучше придумать что-нибудь сейчас же, я всю ночь придумывал, как ответить. Ты случайно встретила меня в Рединге? На вокзале в Рединге? Почему вернулась так поздно? Зачем ездила? За покупками – исключается, что можно купить в Рединге?
– Ты глуп, – сказала Клер Бейз. – К счастью, ты мне не муж. Ты глупец с мозгами как у сыщика, а с глупцами такого рода вступать в брак нельзя. Поэтому тебе никогда не жениться. Глупец с мозгами сыщика – глупец сообразительный, глупец логического склада, такие хуже всех, потому что мужская логика не возмещает им глупость, а удваивает либо учетверяет, и глупость у них становится агрессивной. Глупость Теда не агрессивна, это и помогает мне жить с ним, и даже способствует тому, что жить с ним мне нравится. Он свою глупость осознал, а ты свою – еще нет. Ты такой глупый, что еще веришь, что можешь и не быть глупым. Еще пытаешься. Он – нет.
– Все мы, мужчины, глупые.
– Все люди на свете глупые. Я тоже. – Указательным пальцем она смахнула пепел с сигареты, но плохо рассчитала, и пепел упал на ковровую ткань возле ее необутой ступни. Я смотрел на эти ступни, вожделенные, обтянутые темным, смотрел на горку пепла и ждал, когда ступни коснутся этой горки и измажутся. – Будь ты на месте Теда, ты не задал бы мне этих вопросов, потому что знал бы, что я могу ответить, а могу и не ответить, и, в конце концов, это не имеет значения. Всегда стараешься сохранить мир с человеком, если живешь с ним повседневной жизнью. Если тебе ответят, ответ может оказаться ложью (и тебе придется принять ложь за правду), а может оказаться правдой (а ты не так уж уверен, что хочешь правды). Если тебе не ответят, ты начнешь настаивать, а я тогда могу рассердиться, начну спорить, упрекать тебя, но так и не отвечу; а то посмотрю на тебя непонимающе и на несколько дней перестану с тобой разговаривать, но ответа так и не дам, и тебе в конце концов надоест все тот же мой непонимающий взгляд и мое молчание. Мы накликаем на себя приговор тем, что мы говорим, а не тем, что делаем. Накликаем на себя приговор тем, что говорим сами, либо тем, что, по нашим словам, делаем, но не тем, что говорят другие, и не тем, что мы и вправду сделали. Силой ответа ни у кого и ни на какой вопрос не вытянуть, и будь ты на месте Теда или будь ты женат, ты бы об этом прекрасно знал. В мире полно незаконных детей, о которых никто не знает, что они незаконные; и они получают в наследство богатство или нищету не от тех, от кого зачаты. Никто из мужчин никогда не знает, отец он своим детям или нет, даже если дети на него похожи. В супружеских парах никто не отвечает на вопросы, если не хочет отвечать, а потому, в конце концов, задают их нечасто. Есть пары, которые вообще не разговаривают друг с другом, не такая уж редкость.
– А что, если Теду взбредет быть сегодня таким, как я, и он все-таки спросит? Что ты ему скажешь, если он вдруг войдет вот в эту дверь и подвергнет тебя допросу? «Что вы делали вместе вчера вечером в Рединге? Откуда вы там взялись? Вы спали вместе? Вы любовники? Вы спите вместе? С каких пор?»
– «Ты глуп» – вот как я бы ему ответила, так же точно, как уже ответила тебе.
Она положила газету, встала из-за стола и наступила на горку пепла, который все это время сбрасывала почти себе под ноги, сама того не замечая. Она подошла ко мне, я отвернулся, и оба мы молча выглянули в окно: за окном были облака и солнечные просветы; ее грудь касалась моей спины; английские ребятишки просили пенсы для своей тряпичной куклы, повешенной над ступенями Корпуса Радклиффа. Я открыл окно и бросил им монету; она покатилась по камню, и звяканье заставило четверых из компании повернуть голову в нашу сторону; но я уже затворил окно, сквозь стекло видны были разве что наши силуэты. Клер Бейз провела ладонью мне по затылку, а необутой ступней – по моему башмаку. Я подумал, ей, наверное, вспомнился сын. У меня на башмаке осталось серое пятно.
* * *
Вот запись, которую Кромер-Блейк сделал у себя в дневнике от того самого пятого ноября того самого года и которую я перевожу и включаю в свой текст сегодня:
«Больше всего меня поражает, что моя болезнь все еще не мешает мне интересоваться жизнью других. Я принял решение вести себя так, словно со мной ничего не случилось, и не говорить ничего и никому за исключением Б., да и Б. только в том случае, если подтвердится худшее. Оказывается, это нетрудно, было бы принято решение. Но удивительно не то, что я в силах хранить тайну и вести себя как должно, а то, что я по-прежнему испытываю все тот же неизменный интерес ко всему, что меня окружает. Все для меня важно, все меня затрагивает. На самом деле мне не нужно притворяться, потому что я не могу уговорить себя, что подобное может произойти – или скоро произойдет – со мной. Мне никак не свыкнуться с мыслью, что, судя по положению вещей, я могу в конце концов умереть – умереть! – и еще с одной мыслью: что, если это произойдет (скрестим пальцы), я перестану узнавать о том, что по-прежнему будет происходить с другими. Словно у меня вырвут из рук книжку, которую я читаю с неизбывным любопытством. Непостижимо. Хотя, если б только к тому все оно и сводилось, полбеды; худо, что никаких других книг уже не будет, жизнь как единственный манускрипт.
Жизнь все еще такая же, как в Средние века.
Если подтвердится худшее, мне-то, разумеется, больше ничего не будет грозить, только моя смерть, угроза самодостаточная. С этой мыслью мне никак не свыкнуться, а потому не хочу снова идти к моему доктору или показываться Дайананду, – он, должно быть, уже заподозрил, что со здоровьем у меня неладно, клинический глаз у него беспощадный. Вот почему для меня сейчас так важно то, что для меня утратит тогда всякую важность: что будет с Б. (не могу себе представить, как это я не буду больше присутствовать в его жизни, смерть отнимает у нас не только нашу собственную жизнь, но и жизни других людей) и что будет с самим Дайанандом, и Роджером, и Тедом, и Клер, и с нашим дорогим испанцем. Сегодня я увидел их обоих у нее в кабинете, стояли рядом у окна, видно, только что разомкнули объятие, не столько влюбленные, сколько взбудораженные и в то же время чуть опечаленные, словно сожалели, что не могут любить друг друга еще сильнее. Хорошо, что первым вошел я, а не Тед. Тут на днях Клер между двумя занятиями забежала ко мне в кабинет, была нервознее обычного и очень торопилась выговориться. Я отвел на нее только три минуты, которые превратились в шесть (юный Боттомли томился в нетерпении за дверью с надменным и осуждающим выражением на лице); и за эти шесть минут она не сказала ничего особо связного или конкретного, говорила все время исключительно о Теде, словно это было важнее всего на свете. Я ждал, что она позвонит позже, объяснится вразумительней, – абсолютное молчание, ни звука. Зато сегодня я вдруг почувствовал: чья-то нога, ее нога, касается под столом моей правой лодыжки, к великому моему изумлению. Пальцы ее ноги поглаживали мою лодыжку. К счастью, сидели мы в „Галифаксе", скатерти там до полу. Я сразу понял – Клер нащупывала левую ногу нашего испанца, сидевшего рядом со мной, так что я, глядя на нее широко раскрытыми глазами и чуть-чуть упрекающе, незаметно взял ее ногу за щиколотку и переправил туда, куда она на самом деле жаждала попасть, – на чужеземное колено. Затем, разумеется, я отключился от подстольных маневров и срочно завел с Тедом разговор на новую тему, побаиваясь, как бы тот не заметил, что происходит в недрах. Все это напрягало меня до крайности и в то же время было до крайности занятно, отчего я испытал чувство вины. Я за них беспокоюсь, за всех троих, и задаюсь вопросом, чем все это может кончиться. До конца учебного года еще месяцы, прошла только первая половина Михайлова триместра.[15] Но я не могу не видеть комической стороны сюжета, несмотря на мою дружбу с Тедом, на мое беспокойство (во всех отношениях) за Клер и на мою болезнь. При всем при том первое, о чем я рассказал Б. нынче вечером, была путаница с конечностями, словно она явилась главным событием дня либо успешнее всего могла отвлечь Б. от причин его недовольства. Я тот же, каким был всегда, вечно колеблюсь между яростью и смехом – обычные мои реакции на все явления жизни, середины нет, для меня это два взаимодополняюгцих способа поддерживать связь с окружающим миром, пребывать в этом мире. Либо впадаю в ярость, либо смеюсь, либо то и другое сразу, но все это – внутри самого себя. Я не меняюсь. Болезнь должна была бы изменить меня, сделать рассудительнее и мягче. Но вот болезнь-то как раз и не смешит меня, и не приводит в ярость. Если будет прогрессировать, если диагноз подтвердится (снова скрестим пальцы), начну наблюдать за собой. Я испуган».