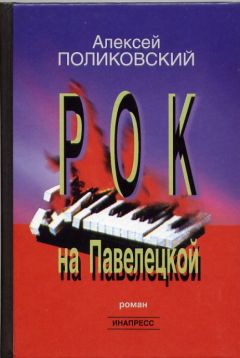Во всем этом было что-то странное, не вполне ясное, лишенное логики или, наоборот, наделенное непогрешимой логикой. Я-нынешний, я, доживший до зарплаты в конверте и турецкого синего махрового халата, в который уютно облачался дома по вечерам, этой логики не принимал. Я был для неё слишком хорошо встроен в жизнь, слишком мягок, слишком слаб. Желеобразный, лояльный, обычный. Но где же сталь рок-н-ролла, где умение быть одному против всех? Все это ушло. Я был зависим от жены и сына, которые были моё все, я, при всей своей внешней солидности, был внутри себя полон страха — страха потерять работу, лишиться медицинской страховки и хорошего автомобиля, страха зарабатывать столь мало, что не смогу ездить на Рождество в Париж, а летом летать в Лиссабон. Мы снимали там каждое лето на месяц апартамент. В конечном итоге именно это теперь была моя жизнь — и как надо было назвать всю сумму моих банальных опасений?
Вряд ли я боялся потерять только деньги. Это был страх смерти — именно он ударом в сердце заставлял меня просыпаться в три часа ночи и лежать с открытыми глазами в тоске, мучительней которой я ничего не знал. Иногда у меня даже вырывался стон, который я гасил, утыкаясь в подушку, боясь разбудить жену. Это был ужас пустоты, ужасной, ледяной пустоты, которая уже маячила мне на горизонте. И я это знал. И снова мысль моя делала разворот и перебрасывала мостик к Final Melody. Какой они находили смысл в том, чтобы пять лет играть музыку на страшном напряжении всех чувств и потом исчезнуть, не оставив после себя ничего? Неужели возможно с ясным умом и в твердой памяти отказаться от завтрашнего дня, от возможности остаться? Я не верил в такой героизм и в столь радикальный способ самоубийства — я скорее готов был предположить, что речь тут идет о дзен-буддистском приеме, позволяющем достичь наибольшей силы сегодня за счет отказа от завтра. Если это так, если Мираж умышленно перекрывал группе путь в будущее, желая добиться наибольшей силы в настоящем, то тогда это был более решительный и последовательный рок-н-ролл, чем все, что существовало в краю праотцов, на легендарном Западе, где музыканты вроде Джанис позволяли себе прожить жизнь до конца, до полного её исчезновения — но все-таки, уходя, оставляли тут свою музыку. Эти не оставили ничего. Я понимал, что сколько не думай про это, сколько не строй версий и не ищи объяснений — загадка останется.
Я помнил концерт Final Melody в ДК «Энергомаш», на который пришел с девушкой Леной, которая позднее стала моей первой женой (сейчас у меня третья) — это было за пару лет до их исчезновения, значит, году в 80. Или 79. Лето. Мы ехали на троллейбусе, в окно влетал тополиный пух и запутывался в её длинных светлых волосах. Она была Ундина — блондинка с зелеными мечтательными глазами, с постоянной улыбкой на тонких розовых губах. Перед ДК, на асфальтовом плато, в теплом воздухе, пахнувшем бензином, шли навстречу друг другу герои автостопа и завсегдатаи сейшенов — высокие узкоплечие парни в пестрых майках и в джинсах, туго обтягивавших ноги, с амулетами на шеях. Они демонстративно раскидывали руки и обнимали друг друга. Девочки с небрежными волосами, в курточках с бахромой, сидели рядком на корточках вдоль стены и смотрели в пространство пустыми медитирующими глазами. Мы прошли мимо них в зал. Освещения в общепринятом смысле — юпитеров, прожекторов — в зале не было, сочился только слабый свет из-за кулис. Я сидел с моей Ундиной во втором ряду, иногда оглядывался назад и видел сотни белых пятен в темноте, источавших возбуждение. Это всегда бывало так перед явлением Final Melody: дрожь вдоль позвоночника, зуд в ладонях и предчувствие музыки, которая сегодня вечером выпрыгнет из горящей головы Магишена…
Начало концерта было в стиле Final Melody — небрежным, дурацким, хмурым. Даже мрачные Doors не позволяли себе такого равнодушия к церемонии — всегда находился кто-то, кто торжественно возвещал перед их выходом на сцену: «Lady's and gentleman’s, The Doors!». Final Melody в этом не нуждались. Героев не представляют. Они всё и всех видали в гробу. Они бродили по сцене с видом алкоголиков, ещё не отошедших от вчерашних возлияний. Зал закипал. Мираж вообще в такие моменты производил впечатление человека в отключке: казалось, он не понимает, куда попал. Он спотыкался о провода, налетал на стойки с аппаратурой, с большим удивлением глядел своими орлиными глазами на набитый пиплом зал, закладывал руки в карманы продранных над коленом джинсов и качался на каблуках… Магишен в длинном белом балахоне спившегося епископа вышел на сцену с бутылкой портвейна 777 в руках. Торжественным жестом церемонемейстера он поставил её на орган. Что-то из Чио-Чио-сан наигрывал на прохладных клавишах в тот вечер этот эрудит в ожидании начала. О'Кей — да, тогда в группе ещё был О'Кей — сидел верхом на динамике и курил. В этом не было бравады и вызова — он не видел причины, почему должен бросать сигарету, выходя на сцену… Роки Ролл на заднем плане жонглировал.
Они переговаривались так, как будто кроме них тут никого нет, никуда не торопились, говорили друг другу что-то никому не понятное, вспоминали каких-то герлушек, ссылались на тибетскую «Книгу мертвых», спрашивали, куда подевался Джон (может быть, Леннон), бурчали что-то про плохой звук, а потом Мираж крикнул Магишену, причем микрофон, рядом с которым он стоял, разнес вопрос на весь зал: «Ты портвейн мне купил, придурок?» Они все время называли друг друга «придурками» и во время концерта для охлаждения распаленных душ пили портвейн. Зал взорвался хохотом, десятки рук поднялись вверх, предлагая Миражу початые бутылки, ответ Магишена не был слышен, потому что вдруг — грохот и рев! Рев и грохот! Пламя и огонь! Черт знает что! Черный задник колыхнулся, как от порыва ветра, и экспресс с воем понесся сквозь визжащий от восторга зал. Их концерты всегда начинались без предупреждения, как война.
Это был один из самых прекрасных моментов в роке, который мне приходилось переживать. Вялая расслабленность, сумрак, бормотание и брожение, полусон, полубред и вдруг — взрыв энергии, обвал тяжелого мрачного звука, пронизанного раскаленной докрасна проволокой гитарных соло. Они врубались так мощно и слаженно, что зал в первые же секунды концерта вскакивал на ноги, и сотни глоток разражались воплями без слов: «А-а-а-а!» Но крика не было слышно — Final Melody играла на чудовищном звуке, способном поглотить любой шум, существующий на планете Земля, будь то вопль толпы, рев сирены, гудок корабля, стук поездов или грохот кузнечного пресса. И я, субботним спокойным утром сидя на тихой кухне с цветами на подоконнике — мы разводим цветы, у нас дома есть лимонное дерево в горшке, две герани и маленькая нежная фиалка — вдруг увидел этот восхитительный бедлам моей молодости: набитый зал, серый сумрак под потолком, опустивших головы, застывших гитаристов, увидел сыпящего во все стороны ударами Роки Ролла, похожего на ликующего многорукого Шиву, Магишена в белом балахоне, с плотно занавешенным волосами лицом — и зеленоглазую Ундину рядом с собой, с тополиным пухом, запутавшемся в длинных волнистых волосах…
Я слышал музыку. Я бродил по квартире, туда и сюда, с кухни в комнату, из комнаты в другую, бессмысленно касался стекол окна, нежно клал ладонь на лист герани, включал электрический чайник и забывал о том, что он вскипел… Этой музыки нигде не было в мире, ни одной катушки с записями не сохранилось — но я её слышал! Снова сидя на ковре, среди раскиданных коробок, я закрыл глаза, расслабил ладони вытянутых вдоль тела рук, вытянул ноги, погрузился в темноту, по которой медленно шли красные расплывающиеся круги. Сердце мое стучало, в то субботнее утро, после встречи с Басом, маясь воспоминаниями, я перепил кофе. Это была длинная композиция Прощай навеки, которой они всегда начинали свои концерты — мрачная и решительная вещь, в которой соло Миража было острым и сияющим, как лезвие ножа. На высоких тонах, в небесах и в далеком раю пела его гитара, в окружении угрюмого баса, в раскачке которого было что-то медвежье, в сопровождении ударных, которые взрывались, как связки гранат: «Трах! Трах! Ба-бах! Чух!». В конце этой вещи — первой же на концерте, — Мираж своим пронзительным соло доводил всех до такого экстаза, что в зале визжали — да, герлы молитвенно складывали руки у груди и разражались визгом, я видел это собственными глазами, — а перед сценой человек двадцать длинноволосых хипов падали на колени и бились головами об пол. Это было похоже на моления сектантов, на истовый азарт посвященных: они касались лбами пола, потом резко откидывали головы назад, и длинные волосы — хайр на языке тех лет — раскрывающимся вихрем летели вверх. И было ясно, как всегда на концертах Final Melody, что добром это кончиться не может: или вот сейчас рухнет крыша, или пипл в экстазе разнесет сцену, или от музыки воспламенится воздух, или в двери ворвется милиция и всех повяжет, или Мираж, доведя свое соло до границ возможного и перейдя в невозможное, сойдет с ума и прямо с концерта будет отвезен в Кащенку.