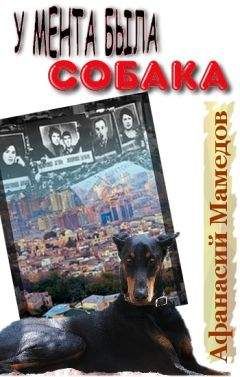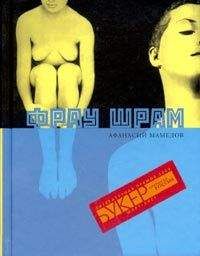— Ты говорил, тут раньше армяне жили.
Участковый делает вид, что не понимает жены, не понимает того, что скрывается за сказанным.
— А ты бы хотела, чтобы тут раньше евреи жили? — Слова его звучат излишне резко в стенах новой квартиры. — Евреи, армяне — какая разница, главное — сколько всего стен и какое расстояние между ними.
Он гоняет своей фуражкой тяжелый медленный воздух, от одной стены до другой. Он загоняет его в пустые углы, словно дрессировщик — зверя. Он объясняет жене, что есть такое на самом деле «квадратные метры» и как они тяжело даются участковым милиционерам.
— Вот тебе один угол, вот тебе — второй!.. Что тебе еще надо от меня, женщина?!
— От тебя?!
— Да, от меня. Если бы я тогда с вами на даче не отсиделся, если бы я зятя за стрельбу на улице не отмазал, в эту квартиру другие бы въехали. Вот тебе еще метр и еще…
Но Марзию, похоже, милицейские «квадратные» мало занимают.
— Не скажи, — говорит она, стараясь не зарываться, — с евреями мы всегда договаривались.
— С армянами раньше тоже договаривались.
— Что ты этим хочешь сказать, что это я Карабаха захотела, я тебя на дачу отправила? Пепел на твою голову, ай мужчина, — жена посылает пасс рукой в лицо майору милиции.
— В Гедабеге своему отцу лысину пеплом посыпать будешь, — ярится Гюль-Бала.
Жена в слезы, в стремительные проходы из одной комнаты в другую, в поиски неизвестно чего. Майор с сигаретой на балкон.
Хорошенькое начало новой жизни, ничего не скажешь. Верно говорят, на чужом холме своих баранов не вскормишь. Но он-то, Гюль-Бала, тут при чем, для него все национальности в этом городе равны были. Нет, правильно евреи у стены молятся. Вон, немцы снесли свою стену — и что? Весь мир посыпался. Хотя, с другой стороны, где Берлинская стена, где Баку. Нет, немцы не виноваты, их стена, чего захотели, то и сделали. И уж Марзия его точно не виновата ни в чем, женщина она, как лучше хочет. Просто каждый народ, каждый человек должен выбрать себе стену, чтобы, как подошел к ней, голову поднял — и сразу небо. Тогда никто на чужое пастбище зариться не будет, чужой земли не возжелает.
Милиционер задрал голову к небу, задумчиво поглаживая лиловую щетинистую шею над кадыком. Ничего, кроме маленького облачка. И небо такое, как всегда в этот час. Небо как небо. Ничего особенного.
Ему показалось, что где-то заплакал ребенок, но потом он решил все-таки, что это заскулила собака, наверное, кто-то из соседей запер ее одну дома.
Он выпятил нижнюю губу до седой щеточки усов, послал струйку дыма в направлении зависшего над ним облака. «Надо будет подвязать кончик виноградной лозы, чтобы на наш балкон пошла, — подумал Гюль-Бала, — а еще надо пойти на маленькую свадьбу».
— Марзия! Хватит дуться. Я думал: это ребенок плачет или собака скулит. Одевайся, пойдем на свадьбу. Начинать на новом месте жизнь хорошо бы по-людски.
— С такой прической я пойду?
— Ты же у меня умница, Марзия, за пять минут каждый день из себя красавицу делаешь.
— Ладно, пойду голову помою. А ты фен мне найди. Вон в том узле должен быть.
— ?! — «Сама найдешь».
Гюль-Бала отправился на балкон курить вторую сигарету, «сигарету примирения», чтобы хорошенько рассмотреть облако, принявшую форму турецкой фелюки.
Жена, в банном полотенце на голове, ищет фен, который так и не смог найти Гюль-Бала. Она развязывает узлы: один, второй…
Находит фен и синий в мелкую полоску костюм милиционера. А еще под костюмом находит она обшарпанный револьвер, наверное, тот самый, из которого зять палил, от националистов отстреливался, и несколько порнографических видеокассет с непонятными русскими названиями «Забава-1», «Забава-2», «Мануэла в зоопарке»… Забавой один и два, должно быть, звали бесстыдно выставившую свой срам пышнотелую блондинку.
Возмущению жены нет предела. Она срывает с головы тюрбан и кидает его в лицо майору.
— Гюль-Бала, иди в зеркало посмотри на свои седые волосы. Гюль-Бала, если не хочешь, чтобы под твоими ногами земля горела, — тычет ему в лицо феном, — вспомни о своих дочерях, а еще вспомни, что у них есть дети, которые тебе, между прочим, внуками приходятся. Не позорь нас всех, уезжай из Баку.
— Марзия, сколько лет со мной живешь, а меня не знаешь. Марзия, ты что, обычные «вещдоки» от моих личных вещей отличить не можешь? Марзия, моему терпению конец приходит, протри скорее кассеты, чтобы отпечатков пальцев не оставалось, и положи на место.
— Мои отпечатки пусть у тебя на горле останутся. — Марзия включает фен в розетку на полную мощь. Кричит:
— Думаешь, я совсем дура. Кому эта шалава позорная, кроме тебя, нужна.
— Кроме меня еще знаешь скольким мужчинам нужна.
— Тебе нужно, чтобы ровесница твоей дочери перед тобой с раздвинутыми ногами сидела, да?
— Я тебе скажу, что мне нужно.
Гюль-Бала рывком выдергивает шнур из розетки. Жена нагибается, снова включат шнур в розетку. А потом…
Марзия, не сводя с мужа испуганных, быстро моргающих глаз и направляя на его седую грудь веющий раскаленным ветром пустыни фен, пятится назад к стене, к которой так хочется ей прижаться, но которую она еще не чувствует затылком.
Такое мягкое, почти пантерье скольжение жены, не подозревающей, что очень скоро оно прекратится, Гюль-Бале по его милицейскому вкусу: «Хорошо бы, чтобы она шла, не оборачиваясь, пока не споткнется об узел с кухонной утварью и верхней одеждой».
Чуть не перелетев через узел, она тяжко плюхается на него, широко раздвинув поехавшие в сторону ноги. И тогда майор накрывает ее своим телом. Разрывает на две половины халат. Вырванные с мясом пуговицы катятся по паркету в разные стороны. Он сопит. Мнет жене бока и груди. Водит носом по животу, собирая запах. Хватает ртом быстро затвердевающие, как в былые, «молодежные» годы, соски.
Марзия, наливаясь соком, дышит прерывисто, расфокусированно глядит на потолок и никак не может понять, почему ее голова съезжает вниз к гудящему фену, сковородке и кастрюлям, а лампочка на голом шнуре раскачивает мир где-то внутри нее, отзываясь пульсацией в чреслах. Почему все тело горит и уже бьется в судорогах. Ведь не хотела же она через этот мост проходить, так почему же пошла. И почему на этом мосту «разводном» обязательно кричать надо, надо горло свое освобождать. И почему потом так стыдно за этот придавленный крик.
А майор в ногах у нее уже, майор в борцовском замке сжимает ее тяжелые лядвеи, отпускает, целует в пушистые лысты, майор хочет сказать: «Марзия, роди мне сына, роди наследника», но молчит, во-первых, он знает, что опомнившаяся Марзия скажет — «На твою голову или на свою?!» — «На нашу», — ответит тогда он, во-вторых, зачем говорить, если уже чувствуешь, знаешь, что так оно и будет, и слова не нужны, без слов лучше: вероятность надежды возрастает с каждым не произнесенным словом.
…Вот кому квартира эта достанется, с двумя балконами и виноградной лозой, вот кто будет похож на него, на Гюль-Балу, как два листа с той лозы. Марзия хоть и бабушка уже, а не подведет, Марзия — честная женщина.
В сорок лет жизнь только начинается, со старыми часами или с новыми, не суть как важно. А то, что сердце болело, так на то оно и сердце, чтобы болеть, когда больно, и биться учащенно-радостно, когда крик женский колеблет небесную твердь, чтобы выпало из высот заоблачных, любовью накрененных, его, Гюль-Балы, продолжение. И посмотрим тогда, какие у зятя глаза будут, какие у дочери. Разве не понимают эти комсомольцы, что он мужчина еще. Да что там еще, он в мужчины навечно записан.
«Правда, Марзия, голубушка моя?»
Он берет двумя руками голову Марзии, гладит ее нежно, прижимает к себе. Ей хочется заплакать, чтобы освободиться от того странного незнакомого чувства, что растет в ней и что уже больше ее самой, она хочет заплакать по-девичьи, но не плачет, потому что все случившееся — очень неожиданно для нее, и она боится, как бы из этого случившегося не вышло чего-то совершенно нового, не входившего в ее женские планы. Но все возвращается на круги своя, мир принимает знакомые очертания.
— Я тебя на этих тюках, будто в пустыне на верблюде… — Майор улыбается самодовольно, тырит что-то из воздуха, заготовляя из него впрок извечное преимущество мужчины перед женщиной.
— Пепел на твою голову, — Марзия назло поворачивается к милиционеру белой рыхлой кормой. — Животное ты в погонах, а не человек.
Машаллах!.. Машаллах!..
Да хранит Бог этого мальца. Что из того, что он пока еще не помнит ни одной молитвы наизусть, не знает, в какой стороне от него Кааба, зато у него есть намерение и восприемник за спиной, дядя родной, вот он какой большой, какие руки у него волосатые тяжелые, особенно правая, «морская», с якорем каспнефтефлотовским, он будет до совершеннолетия опекать мальчика, а пока что шепчет молитву за него во славу Аллаха.