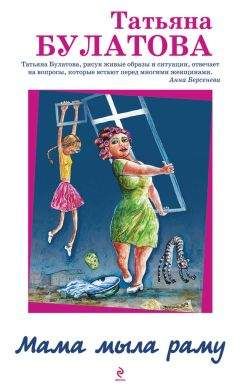Здесь было очень красиво. Висели на стенах полки, а на них – пузатые кувшины и книги. На низком столике стояли цветы, на полу желтел ковер, от него было солнечно и весело. Кресло было низким и глубоким, и Кузьменко инстинктивно сел на стул, боясь себя в таком кресле. Дома у него кресла были большие, с высокими спинками и широкими твердыми ручками. В них было удобно сидеть, они не затягивали в глубину, не превращали человека в голову с торчащими коленями.
– Садись в кресло, удобней! – сказала Шура.
– Нет, нет! – запротестовал Кузьменко.– Мне и так хорошо.
– Ну, как хочешь! – засмеялась она.– Ты посиди, а я приготовлю кофе. Что за разговор без кофе?-
Она ушла. Легкий ветер шевелил штору на двери балкона, и эта штора была куда живей самого Кузьменко. Где-то там звенела чашками бывшая девочка Шурка Киреева, на маленьком столике дужками вверх лежали фиолетовые очки. Он вспомнил, как она сняла их в лифте. Нет, он, конечно, чепуху подумал, это же очки от солнца, вот она и сняла их в лифте. Вернувшаяся способность рассуждать обрадовала Кузьменко, и он даже сумел повернуть голову. На той стене, что была за ним, висела фотография, на которой были сняты двое ребятишек. Они смеялись, у них были хорошие такие, худенькие мордочки. Под портретом обои были порваны, и тут Кузьменко заметил, что они во многих местах лопнули, что кресло, в которое он не сел, старое, потертое и ковер на полу, так веселивший глаз, тоже старенький, потоптанный. И охватило Кузьменко чувство какой-то виноватости, что ли, за все эти щели, дыры и потертости. Он ведь как жил? Добротно. Все у него в доме было не просто целое, а новое. То, что изнашивалось,– заменялось. Антонина следила за этим, и ему это нравилось, а тут он вдруг сообразил: «полусознанное», «стыдливое», то, что «в каждой капле крови», не может сочетаться с новым барахлом.
Не за каждую мысль человек отвечает, явится – не спросится, но такая мысль явилась к Кузьменко, и он окончательно понял, чем жила необыкновенная Шурка Киреева, пока он менял у себя зеленое кресло на синее, а потом на красное, а сейчас у него – зараза! – в цветочках. Не кресло – клумба!
– Ну? – сказала Шура, неся на маленьком подносе чашки, сахарницу, блюдце с печеньем.– Так и живем! В тесноте, да не в обиде. Это сейчас тихо – ребята в лагере, Сережа в командировке, так у меня даже порядок.
А когда все дома, я никогда не решусь сразу человека в гости пригласить.
Кузьменко осторожно взял чашечку. Он терпеть не мог черного кофе и вообще не понимал этой манеры пить его среди дня.
– О! – сказала Шура.– Ты как истый европеец, без сахара.
Кузьменко просто забыл положить сахар, а исправлять оплошность после таких слов вроде неловко. Кофе был крепкий, на совесть. Кузьменко думал, что ему проще всего глотнуть его сразу, как лекарство. Но она ведь определенно нальет тогда еще. Он держал чашечку у самого носа, а Шура нырнула в глубокое кресло, взметнув вверх туго обтянутые брюками колени. Хорош бы он был, если б уселся в него,
– Ну, рассказывай! – приказала она. И на секунду в ее лице мелькнуло что-то забытое. Вот так строго смотрела на него Шурка, когда он хулиганил на задней парте.
– А что рассказывать?– удивился Кузьменко.– Я ж всю жизнь на одном месте. Как после седьмого пошел в шахту, так и до сих пор. Даже в армию меня из шахты не брали.
– Я помню, как ты приходил в школу за документами. Мне жалко было, что ты уходишь. Ты ведь был способный.
Кузьменко засмеялся. Потому что действительно смешно: она пожалела его в самый счастливый момент его жизни. Да он тогда чуть не на голове ходил от радости, что со школой покончено. Это такой был день! Все тогда было! И выпили они е ребятами. И Антонина пришла, и он увел ее в поле, туда, за терриконы, и договорились, что поженятся, а значит, нечего бояться. И не боялись. Потом, правда, когда он, пустой и невесомый, провожал ее домой, ему уже не очень хотелось жениться. Его смущала эта горячо дышащая в ухо девушка, которая шла рядом. Но ведь дано было слово! И эта взвалившаяся ответственность… Уж что-что, а жалеть его в ту пору было смешно.
– Я думала,– продолжала Шура,– такой способный, такой умный, и никто ему не объяснит. А сама я стеснялась. Я ведь в тебя была влюблена. Ты моя, Леня, первая любовь!
Кофе в чашечке Кузьменко заволновался, норовя выплеснуться через край. Вот она и сказала сама… Сказала так просто, спокойно: «Ты моя, Леня, первая любовь!» Что ей ответить, этой женщине-стрекозе в продавленном кресле? Как утешить? Чем? Вспомнилась опять Дуська Петриченко. И представилось несуразное: плачется кому-то в жилетку не она, а Шурка Киреева, а он, Кузьменко, как тот самый Дуськин крепильщик, гарцует где-то, как конь на воле.
Тяжело и пакостно стало на душе у Кузьменко.
– Дети у вас симпатичные! – сказал он, потому что дети такая тема, что за нее удобно спрятаться.
– Еще бы! – радостно отозвалась она.– Ты еще не дед?
А вот вопрос ему не понравился, совсем не понравился. Как ни хотел Кузьменко уйти от своей жалости к Шурке, уходить так далеко – к несуществующим внукам – он тоже не собирался. То есть говорить о любви ему было страшно, а не говорить обидно.
– Рано еще про внуков,– проворчал Кузьменко.
– А сам-то, сам! – ласково смеялась Шура.– В семнадцать женился…
– Время было другое,– сурово сказал Кузьменко,– после войны. Она взрослила. Так что тут нельзя сравнивать.– Суровостью интонации он и закрыл тему.
И они замолчали. Он посмотрел на Шуру. Она все так же улыбалась ему из глубины старого кресла. Черные с медью волосы, уже совсем сухие, беспомощно падали на белую кофточку. Кузьменко сам не мог понять, почему вдруг ему захотелось их потрогать. И он поставил на стол чашечку и освободившуюся руку протянул к ее волосам. Она поняла его желание: наклонила навстречу голову, и он стал гладить легкие ускользающие пряди, а женщина щекой потерлась о широкое кузьменковское запястье. И он не удивился, он почувствовал, как она виском прижалась к тому месту, где всегда щупают пульс, и ему показалось, что он слышит, как бьется на его руке тоненькая жилка. Он слушал и не мог понять, то ли это его пульс стучит, то ли жилка на виске женщины. Кузьменко казалось, что он так может сидеть всю жизнь. Что, в сущности, ему больше ничего и не надо, как только гладить ее волосы и чувствовать ее щеку.
И хотелось ему задержать это необыкновенное состояние, остановить время, но оно, воплощенное в неказистом будильнике, так громко тикало на подоконнике, что переполненному нежностью Кузьменко пришлось высвободить немного сил для осознания желания: «Я его сейчас угроблю, этот проклятый будильник, выброшу к чертовой матери».
Но оказалось, что нежность – очень уж хрупкая материя, ее можно спугнуть даже мыслью. Он только подумал, а женщина тряхнула головой, и его ладонь стала пустой и голой, и холодно стало запястью.
Она поднялась и быстро пошла к подоконнику, а
Кузьменко потрясенно подумал: «Она выбросит сейчас будильник– Не надо! – хрипло сказал он.
– Что? – спросила женщина.
И стала открывать окно, и Кузьменко зажмурился, представив, как летит вниз, на смерть, этот проклятый будильник!
Потом он открыл глаза и увидел, что будильник цел, а Шура стоит и курит, старательно выдувая дым в окно.
Ах, зачем она это сделала! Ну что угодно, только не это! Были две вещи, не принимаемые и осуждаемые Кузьменко в женщинах,– парики и курение, С тех пор, как на каком-то собрании у соседки, что сидела слева от него, сполз набок парик, Кузьменко на женские волосы смотрел с опаской. И то, что к волосам Шурки Киреевой он потянулся, так это отчасти потому, что очень уж естественные, очень свои они у нее были. Как у ребенка. Ну, а про курение и говорить нечего. Это стыд и срам для женщины.
– Я ведь бросила курить,– сказала Шура, будто почувствовав его отношение.– А ты меня разволновал! Господи, сколько лет прошло!
Кузьменко сделал над собой усилие, чтобы не воспринимать Шурку Кирееву как курящую женщину, не видеть в ней этого. Она же выщелкнула сигарету в окошко и засмеялась.
– Не буду тебя шокировать! Ты даже побледнел, Леня, от ужаса, что я курю.
– Вредно,– хрипло сказал Кузьменко.
– Конечно, вредно,– согласилась она.– Да и не такая я курильщица… Так больше, для вида…
Она подошла к нему близко. И снова он растерялся, как тогда, в лифте, когда она сняла очки. Будто полагалось ему что-то сделать, а он то ли не может, то ли не хочет… И пока он топтался в этой своей растерянности и неуверенности, она сама храбро положила ему руки на плечи.
– Какой ты большой и каменный! – сказала она. И так же легко сняла свои невесомые руки и засмеялась чему-то.
Это же Шурка Киреева, кричал он себе. Она меня любит! И старался вернуть то свое состояние, когда ему хотелось остановить время. Но все было не так, и женщина, которая стояла перед ним, не нравилась ему, как и тридцать лет назад. Будильник же стучал, как молот… И он вздохнул, вздохнул даже с некоторым подвыванием. Шура испугалась и спросила: