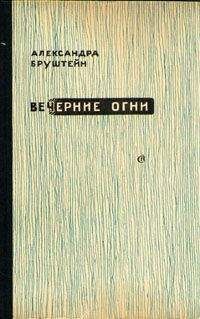А я держала корзинку, в которую всё это складывалось, и млела. И всё же для бабушкиной энергетики явно не хватало домашних занятий: не имея других возможностей выразить свою любовь к деду, она до хруста крахмалила покрывала и украшала ими мебель в квартире. А потом очень пеклась, чтоб всё было красиво и не помято. А я вечно садилась, подмяв ногу под себя, и пачкала крахмальную красоту. Бабушка ругалась и шла стирать.
Дед приходил с работы и тоже нарушал идеальную красоту, потому что сразу устало ложился на диван с крахмальным покрывалом. Вера причитала в полном конфликте со здравым смыслом: «Петя, не лежи на диване — покрывало помнёшь!» Петя, не вставая, иронизировал: «Действительно, как можно лежать на диване? Диваны вовсе не для этого! Иди сюда, я тебе покажу, для чего нужны диваны!» Бабушка, опомнившись, махала на него рукой, смеялась и с криком «Петя, не при детях!» бежала к плите — нести ужин. Наверное, дед понимал, что колом стоящее покрывало и прочие глупости — это форма её любви. И не сердился. Он вообще практически не сердился, потому что был — чего уж там — очень умный.
При этом нельзя сказать, что дед был смирный. Он, вообще-то, любил диспуты: во времена его учёбы политические вопросы ещё обсуждали, так что можно было дискутировать о революции от лица Ленина, а можно — от лица Троцкого. «И плохо было Ленину, когда я был Троцким!» — говорил дед моей матери, рассказывая про свою студенческую юность. А вот с бабушкой он не конфликтовал: считал, что раз согласился жить вместе, то незачем препираться. Поэтому, наткнувшись на какое-нибудь странное женино убеждение, он изумлялся, как настоящий учёный, и искал в нём смысл. Если находил, не перечил.
А если не находил, то ловко иронизировал. В начале пятидесятых его лечил Певзнер, который попал под «дело врачей». Бабушка внимательно следила за мужниным здоровьем и доверяла хорошему врачу, поэтому за праздничным столом не позволяла деду есть острое, приговаривая: «Не ешь этого, Певзнер не велел!» Дед улыбался и парировал: «Ну, Верочка, он же врач-вредитель!» — и подмигивал ей. Бабушка махала на него руками, но перечить переставала: она боялась политических разговоров.
Дед, похоже, вообще мало волновался, а больше делал и шутил. Когда у меня долго не резались зубки, бабушка стала тревожиться, а дед невозмутимо сказал: «Ничего, протезики вставим». У него в это время тоже вставала проблема с беззубым ртом, только у него зубов уже не становилось, а у меня ещё не было. Потом у меня зубы прорезались, но в полтора года на даче я дала вспышку аллергии с температурой под сорок. Все переполошились, а дед объявил, что эксперимент был не чистый и его надо повторить, то есть дать все подозреваемые продукты по отдельности и найти аллерген. Бабушка грозно заявила, что это произойдёт только через её труп, Петюня кивнул и втайне от неё вместе с моей матерью аккуратно провёл эксперимент. Выяснилось, что виновата клубника. С тех пор лет до двадцати пяти я на неё только смотрела. А потом аллергия прошла, и теперь я её уплетаю безо всяких последствий, даже странно.
У деда было всего две ситуации, когда они с бабушкой не договорились. Дед отказался покупать дачу, сказав: «Моя жена на грядках горбатиться не будет!»
Заработки позволяли ему снимать любые фазенды, но бабушке хотелось своего имущества, и как-то она упёрлась, взяла деньги с книжки и пошла в дедов профком покупать вожделенную дачу. А ей там и говорят: «Вы домохозяйка, вам нельзя». И дед выиграл этот спор без слов.
А ещё он без слов выиграл спор про социальную справедливость. Дед руководил лабораторией в знаменитом физическом институте, делал какие-то важные проекты и регулярно получал государственные премии, которые мог брать себе лично, но считал достижением всей своей лаборатории.
Поэтому одну премию он нёс домой, а следующую раздавал всем, включая уборщиц. Жене он просто об этом не сообщал, точно зная, что хозяйственная дочка обобранного Советами заводчика не поймёт логику дворянского сына, специально выращенного мудрым психиатром в рабоче-крестьянской обстановке. Моей матери, когда подросла, дед объяснил, что считает это правильным — и всё. Мать поняла.
А вот другой дедов секрет — не поняла. Она рассказала как-то, что однажды, ещё до моего появления на свет, она с моим отцом повздорила. Когда разговор перешёл на повышенные тона, дед вышел из соседней комнаты и сказал: «Если женщину любишь, ей прощаешь всё!» На возмущённый вопрос зятя «Как всё?» повторил: «Всё!» — и ушёл в свою комнату работать дальше. Вот так! Видно было, что мать с гордостью считает это правило верным только для мужчин. Может, поэтому своего отца я никогда не видела. Судя по её истории и по жизни деда с бабкой, это двустороннее правило. Иначе — не работает.
Я уверена, что бабушка догадывалась про дедовы премии — уж очень была сметлива. И уж точно нервничала про его политические анекдоты, сердилась, когда диссертацию долго защищал, и злилась, когда дачу не дал купить. Способная двадцать лет с возмущением помнить заимствованные сестрой на день голубые перчатки, она никогда не рассказывала о Петюне ничего плохого.
Что ещё добавить? Когда я в последний раз говорила с бабушкой, то почему-то спросила, любила ли она деда. Она пожала плечами, улыбнулась и ответила: «Не знаю». Мне тогда ответ показался странным, потому что я волновалась про слова. А сейчас вспомнила эту улыбку — и поняла, как сама смотрела на деда из манежа. Улыбка поднялась из глубины и вышла, наконец, на поверхность лица.
И это всё?
Всё.