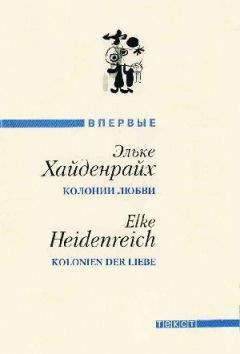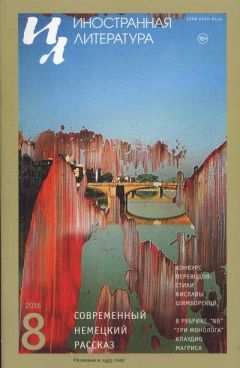Внизу полетела посуда, зазвенело стекло, и вдруг мать совершенно спокойно сказала: «Так, хватит, Пауль. Я умываю руки. Я ухожу, и ты сам увидишь, как тебе удастся справиться со всеми этими неприятностями». А мой отец ответил: «Хорошо. Если ты этого добиваешься, пожалуйста, я согласен, давай разведемся». Потом хлопнула дверь, и вскоре после этого мать, громко плача, вышла из гостиной. Мы разбежались по комнатам и услышали, как в спальне захлопали дверцы шкафов. Полчаса спустя наша мать с чемоданом в руке под адский лай Молли покинула дом и отправилась к остановке автобуса, хотя по ночам там никакие автобусы не останавливались. Отец вернулся домой, громко топая прошел через прихожую, прикрикнул на собаку, выключил свет и отправился спать. Снаружи слышался шум проезжавших мимо автобусов, и я подумала, что наша мать уедет на попутной машине. Черт побери, такой смелости я от нее не ожидала. На следующее утро отец приготовил нам завтрак, недовольно насвистывая себе под нос. «Ваша мать уехала, она покинула нас, — сказал он, — мы разведемся, но вам не следует волноваться по этому поводу». — «А что будет с нами?» — спросила я. «Берти, — ответил он и добавил важности в свой голос, — большинство скандалов было из-за тебя, я тебя не упрекаю, но твоя мать не справляется с тобой, и я не могу позаботиться о тебе как следует, поскольку каждый день хожу на работу. До окончания школы я помещу тебя в прекрасный интернат, на выходные ты сможешь приходить домой — ко мне или к матери, как тебе захочется. Я останусь здесь с Траудель, а мать с Беллой переедут к тете Гедвиге». Белла состроила высокомерную мину и сказала: «Еще два года, и я все равно уйду из дома», а Траудель спросила: «А что будет с Молли?» — «А собаку, — ответил отец, придется пристрелить, бессмысленно держать ее по полдня одну на цепи, ты в школе, я в конторе, кто позаботится о бедном животном? Она будет часами лаять и визжать, и соседи все равно в один прекрасный момент прибьют ее дубиной, уж лучше я это сделаю сам». Траудель положила голову на стол и зарыдала. Ее волосы попали в какао, а Белла встала и возмущенно сказала: «Когда я наконец расстанусь с этой семейкой, я перекрещусь три раза». На улице просигналили — у нее был друг с машиной, отвозивший ее по утрам в школу. Я никогда не пойму, что мужчины находят в Белле, наверно, им нравятся ее роскошные волосы.
Наша мать исчезла. Она не звонила и не думала возвращаться домой. Когда мы спрашивали отца: «А где же все-таки мама?» — он отвечал: «Откуда я знаю, наверное, вместе с другими ведьмами на шабаше», — и этими словами доводил Траудель до слез. Жизнь в доме шла относительно нормально. В интернат меня не отдали, Молли по-прежнему тявкала, носилась как бешеная по дому, когда мы возвращались из школы, и рвала в клочки газеты и нашу обувь. Когда отец был дома, Траудель не спускала с него глаз. Днем мы оставались одни, на обед делали себе бутерброды или жарили яичницу, а по вечерам отец возвращался из конторы домой на один или два автобуса раньше, чем прежде, и начиналось длившееся часами приготовление еды: кухня превращалась в свинарник, зато мы получали курицу под соусом «карри» и спагетти под соусом «чили», лакомства, которые наша мать никогда не пробовала и уж тем более никогда не готовила. Вкус был фантастический, теперь мы сидели за ужином до десяти вечера, я могла прикурить от сигареты отца, и даже Белла иной раз присаживалась к нам, а потом шла на кухню, чтобы вымыть посуду — и это наша принцесса-белоручка. Вытирала посуду Траудель, она с удовольствием подчинялась Белле, а я держалась около отца, мы раскладывали пасьянсы, и я допытывалась: «Папа, что же будет? Я не хочу в интернат, а Траудель умрет от слез, если ты застрелишь собаку». — «Подождите, — говорил он, — может быть, к вашей матери вернется разум». — «У тебя есть подружка?» спрашивала я его, а он возмущенно вскрикивал: «Как тебе такое в голову пришло?» — но немножко краснел и смущался.
Сейчас я думаю, что была достаточно близка к истине с этим предположением, но тогда я не раздумывала особенно долго над этими делами. Много позже, в тот день, когда отец выходил на пенсию, я познакомилась с одной женщиной из его учреждения, которая смотрела на него со странно жаждущим выражением лица, да и он поглядывал на нее чаще, чем на других коллег, и я поняла, что тогда была права, и испытала гордость за своего отца, в которого влюблялись и другие женщины. Мать не пошла с нами на этот вечер, она лежала в постели с тяжелым гриппом. Белла была уже замужем, а мы с Траудель нарядились как можно лучше и вместе со своим отцом — ему уже исполнилось шестьдесят пять лет и он стал маленьким и седым — отправились на его большой праздник. Тридцать лет в одной и той же фирме! Вместе с ним выходил на пенсию один бухгалтер, имевший большие заслуги перед фирмой, поэтому в расходах себя не стесняли, и в праздничном зале отеля «Рыцарь» был накрыт гигантский стол с холодными закусками, омарами, семгой и чудесными салатами. Мы с Траудель пристально поглядывали на него, но перед едой начали произносить бесконечные речи. Заслугам бухгалтера было отдано должное, нашему отцу пропели хвалебную песнь, а рядом с ним стояла женщина с жаждущими глазами, она долго чокалась с ним шампанским, потом прислонилась к нему, и наш отец в какой-то момент положил ей руку на талию и при этом с опаской посмотрел на нас. Траудель ничего не заметила, она косилась в сторону фуршетного стола, но я ободряюще подмигнула ему. Он робко улыбнулся и чокнулся со мной, и я так любила его в это мгновение, что у меня заболело сердце, больше всего мне хотелось броситься к нему и расцеловать. Но речи тянулись и тянулись, потом заиграл струнный квартет, и ученики фирмы — их частично выучил и мой отец — разыграли комическую сценку, в которой изображались конторские будни и в которой я не поняла ни слова. Мне стало ясно, как мало наш отец рассказывал дома о своей работе, мы, собственно, и не знали точно, чем он занимался, кроме того, что приносил домой деньги, а их было, как это мы всегда слышали от матери, маловато, «потому что он не был честолюбивым и не особенно напрягался». Траудель шепнула мне: «Что это за странные пустые места на столе, как ты думаешь, туда что-нибудь поставят?» И на самом деле в центре прекрасно сервированного стола были три большие, темные, круглые дыры, вырезанные в бумажной скатерти. «Может быть, туда нужно будет бросать грязные тарелки и приборы?» — прошептала я в ответ, а стоявшая рядом со мной старая дама прошипела: «Тсс, потише!» поскольку ученики как раз пели:
Кто не будет слушаться, тому попадет,
Вот сейчас сам Курт, сам Курт придет,
подразумевая, скорее всего, начальника отдела. Я потом как-то раз продекламировала эту сентенцию Беллиному мужу: «Если Белла не будет слушаться, то ей попадет, к ней сам Курт, сам Курт придет», — а он засмеялся и сказал: «Я не в состоянии разобраться в твоей сестре, пусть кто-нибудь другой обломает свои зубы». Я бы с удовольствием полюбила этого Курта, честно говоря, он был самым милым из всех ее дружков и мужей, но меня мужчины начинают замечать только тогда, когда приходят в отчаяние от моей сестры, и, к сожалению, они не желают связываться второй раз с той же самой семьей.
Когда все речи наконец закончились, раздались продолжительные аплодисменты, а мой отец и бухгалтер получили по большому креслу-качалке для времяпрепровождения на пенсии, которая, собственно, уже началась, и я подумала: «О Господи, и где же в нашем доме можно поставить этого монстра?» Как ни странно, но это кресло у нас так и не появилось. Мать постоянно язвила по этому поводу: «Они могли бы тебе что-нибудь подарить на прощанье, что за скаредная фирма!» Мы с Траудель помалкивали, а я подумала, что кресло-качалка наверняка стоит в квартире его сотрудницы и что наш отец иногда заходит туда тайком, чтобы покачаться, — как знать.
Наконец пригласили на фуршет, причем сигналом послужили как громкий удар гонга, так и возглас пожилой дамы, стоявшей рядом со мной: «Подождите НЕМНОЖКО, сейчас будет сюрприз». Все остановились, и Траудель сказала: «Не может быть!» — потому что из трех круглых дырок одновременно появились три головы. Все три были раскрашены и разрисованы, первая изображала морковь, вторая помидор, а третья — салат; у одного лицо было оранжевого цвета, у другого — красного, а третий был зеленый с листочками на голове. Все это время они лежали или сидели под столом, и вот их головы протиснулись между подносами с рыбой, мясом и салатами и провозгласили: «Банкет открыт!» Раздались бурные аплодисменты, и мы медленно двинулись к столу, где над тарелками с едой кивали, улыбались, желали приятного аппетита, предлагали взять кусочек семги, рекомендовали как особенно вкусный салат с макаронами живые головы. Шутники заляпывали майонезом того, кто изображал помидор, он сносил все с улыбкой и говорил: «Непременно попробуйте кусочек этого сыра», а я удивлялась про себя: «Подумать только, наш отец проработал в этой фирме тридцать лет, да что мы, в сущности, знаем о своих родителях».