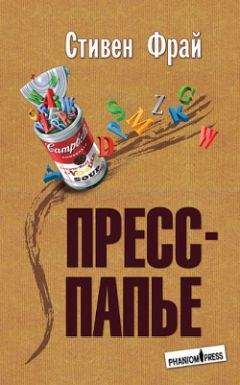Что касается этого времени года, у меня образовался своего рода ритуал – я посвящаю целый день разбору бумаг: составляю опись писем, привожу в порядок записные книжки и тетради, в кои заношу разного рода афоризмы и цитаты, заказываю самосвал, который избавляет меня от писем, полученных за год от торгующих кредитными карточками компаний. С тем, что столь симпатично наименовано макулатурной почтой, я расправляюсь не случайным образом, а заведенным ежегодным порядком, ибо я не просто выбрасываю ее на помойку, но возвращаю компаниям, которые мне ее, собственно, и прислали. Что думают обо мне мистер «Виза» и господа «Диннерс-Клаб», каждый год получающие большие партии глянцевитой бумаги, я ни малейшего понятия не имею, они не удосуживаются сообщать мне свои мнения на сей счет. Если их чувства хоть в какой-то мере отвечают моим, они, полагаю, безумным образом раздражаются. Мне трудно представить себе какого-нибудь сотрудника или сотрудницу этих компаний, коих приобретение изображающей чайницу серьги или ониксового ведерка для шампанского способно заинтересовать в большей, нежели меня, мере, – даже при том, что любовно обработанная поверхность этих вещиц позволяет разместить на ней аж до трех его или ее инициалов.
Впрочем, подлинная радость, которую доставляет мне весенняя приборка, связана с письмами. Дело в том, что в настоящее время я погружен в самую что ни на есть войну на истощение – эпистолярную – со многим множеством разбросанных по всему миру филологов и структурных лингвистов. Так, в Пенанге проживает некий посвятивший себя изучению языков меланезийской группы профессор, с которым я вот уже тридцать лет письменно бранюсь по поводу корня простого папуасского слова redatt, обозначающего, как некоторые из вас наверняка знают, человека, который «навряд ли пожелает принять участие в вечерних развлечениях». Весьма полезное слово, делающее папуасам немалую честь. Как человек, очень далеко отстоящий от того, чтобы быть redatt, человек, получающий наслаждение от самых незатейливых комнатных увеселений, я обнаружил, что простое объяснение значения этого слова людям, приглашенным погостить несколько дней в чьем-то загородном доме, приводит к тому, что они с куда меньшей вероятностью отказываются от участия в любых увеселениях, кои я беру на себя смелость предлагать им, когда день близится к концу. Собственно, этим и важен для нас язык. В большинстве своем те, кто не питает склонности предаваться в послеобеденное время играм и – до некоторой степени – спорту, почитают себя людьми сдержанными и многомысленными, присущая им прискорбная надменность заставляет их думать, что они будто бы стоят выше игривых шалостей прочих людей. Услышав же от меня, что народ, который обитает в тысячах миль от них и образ жизни которого почитается куда менее утонченным, чем их собственный, давно уже успел дать им полное и исчерпывающее определение, эти люди ощущают себя несколько уязвленными. То, что некое непритязательное племя сумело определить их неприязнь к вечерним играм одним-единственным словом, представляется им несказанно обидным. И люди, не склонные к увеселениям, оказываются в итоге лишенными обаяния или чарующей загадочности – они всего-навсего redatt: те, кто навряд ли пожелает принять участие в вечерних развлечениях.
Ну и поскольку близится время Пасхи, я хотел бы взять на себя труд выгрузить из моего сознания еще одно слово. Довольно редкое, происходящее из древнего ургского диалекта, бытовавшего в тундре и использовавшегося в четвертом столетии лопарями, которые после великой Херффтельдской оттепели 342 года от Р. Х. расселились в окрестностях Хельсинки. Это слово Hevelspending, имя существительное, обозначающее «радостный вздох человека, который, гуляя поутру, ощущает в воздухе, впервые после долгой зимы, дуновение весны». У нас, британцев, имеется слово «бандит», коим обозначается «некто, чье ремесло сводится к тому, чтобы останавливать на улице людей и насильственно избавлять их от ценных вещей», а вот у лопарей есть слово для описания «радостного вздоха того, кто, гуляя поутру, ощущает в воздухе, впервые после долгой зимы, дуновение весны». Hevelspending. Вы знаете, леди и джентльмены, быть может, на меня порой нападает… нет, не знаю. Наверное, во мне просто сидит склонный к созерцательности мистик.
И пока яркий солнечный свет проталкивает весну сквозь цветные стекла моего старинного окна, пока я вот так беседую с вами, я вдруг замечаю, что по моему глуповато поблескивающему лицу текут слезы, что они проливаются по рытвинам моей плоти и капают с подбородка на навощенное дерево стола, за которым я восседаю. У нас имеются слова и для этой слабости тоже, «старческая лабильность», вот как это называется, – склонность, размышляя о таких понятиях, как Весна, Дом или Дружба, плакать на манер малого дитяти. О господи, я так стар, так глуп. Люди мелкие толкуют о том, как остаться молодым, однако они упускают из виду пугающую красоту и ужасное величие человека, который стареет до самой глубины его души. О-хо-хо, если вы были с нами, что ж, значит, тут вы и были.
Ну и очень за вас рад. Настает то самое время года, когда молодые люди, коими я кропотливо окружаю себя здесь, в Кембридже, выползают из своих комнат, запасаются мокрыми полотенцами и холодным кофе и пытаются за одну неделю напичкать свои эластичные мозги тем, чему следовало понемногу просачиваться в оные, основательно впитываясь, на протяжении трех лет. Люди, которые об экзаменах ничего толком не знают, говорят о них много всякого вздора, и потому мне, человеку, который составляет программы экзаменов и выставляет оценки, быть может, стоит рассказать тем из вас, кто держится того мнения, что экзамены будто бы весьма сложны и важны – или, напротив, что они легки и никакого значения не имеют, – о том, как можно добиться на них хороших результатов без утомительной возни со знаниями и без приложения особых усилий.
Молодому человеку, который только еще начинает научную карьеру, я сказал бы следующее: образование приготовляет вас к жизни, и потому вам, чтобы преуспеть, надлежит научиться врать, списывать, красть, переиначивать, усваивать, присваивать и всячески искажать. Я добился в этом университете выдающихся научных успехов благодаря всего только двум эссе. Я получил с их помощью аттестаты о начальном и среднем образовании, я представил их в переписанном виде на вступительные экзамены в Кембридж – и получил за это стипендию, я переварил их и отрыгнул на предварительном и выпускном экзаменах, позволивших мне получить диплом. На каждой стадии моего успешного продвижения вперед я вставлял в них все более длинные слова, крал цитаты у очередных новейших авторов и перекраивал предложения, подгоняя их к господствующим академическим модам и вкусам. Однако, по существу, вся моя научная репутация и положение покоятся на фундаменте не таком уж и основательном – на способности заучить наизусть горстку довольно банальных, второсортных статей. Мы впали бы в грех чудовищного переоценивания ума и проницательности экзаменаторов, если бы предположили, что они – «мы», следовало бы мне сказать – способны каким-то образом «видеть насквозь» таких отличающихся ловкостью рук, банальностью и лживостью претендентов на диплом, каким был и я сам. Человеку достаточно толково – со стилем, чутьем и напором – изложить суть заданного ему вопроса, чтобы получить отличие первой, а то и высшей степени.
И потому я чувствую себя просто-напросто обязанным настоятельно порекомендовать тем, кому предстоит сдавать экзамены, просмотреть лучшие свои эссе и прикинуть, каким образом можно противопоставить одно другому, а там и совокупить их первые и последние абзацы с тем, чтобы создать впечатление, будто они служат ответом на любой вопрос, какой может поставить перед ними экзаменатор – или время. И дабы меня не обвинили в том, что я сбиваю нашу молодежь с пути истинного, дабы не попытались отдать под суд за причинение тяжкого ущерба, приведшего к катастрофическим последствиям, позвольте мне сказать следующее: для того, чтобы осознать универсальную всепригодность собственного эссе или понять, как представить его в виде, способном произвести впечатление на легковерного экзаменатора, требуется определенная разновидность вероломного, изворотливого ума или по крайней мере основательное знание методов экзаменации; если же вы лишены и того и другого, самое для вас лучшее – предаться усердным трудам на одобряемый всеми манер, напитав честной кровью жилы и усердием сердца.
«Как это некрасиво!» – хором воскликнете вы. Но посмотрите вокруг, посмотрите! Вы увидите мужчин и женщин, обладающих богатством и властью. Разве не эту же самую пронырливость, способность манипулировать другими и облапошивать экзаменаторов проявляют они в реальном, жестоком, серьезном мире, который сами же и воздвигли в стороне от опушек густых академических рощ? И разве эти люди честны и усердны, разве жаждут они доискаться истины? Отнюдь. Наши экзамены лишь отражают, а там и питают мир, настоянный на порче и нравственном разложении и утопающий в них. «Пробиваются» в нем лишь те, кто ловок, умеет внушать доверие, приспосабливаться и лицемерить. И потому я призываю вас, если вы разделяете мое отвращение к этому напомаженному, елейному миру, упраздните нашу систему экзаменов, добейтесь того, чтобы умы поверхностные, безответственные и поспешные – то есть такие, как мой, – вызывали одно лишь презрение, а люди чистосердечные и искренние, подобные вашим детям и вам, процветали. Пока же мы позволяем наделенным способностью убеждать презентабельным болванам, которыми пестрит наша академическая жизнь, занимать посты, наделяющие их влиянием и властью, национальная душа наша так и будет оставаться замаранной.