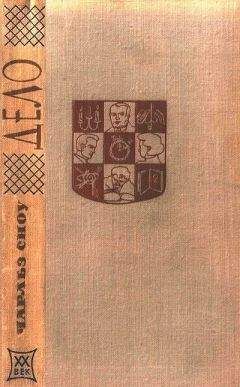Я подтвердил, что не могли.
— Я просто не вижу, на что тут можно рассчитывать.
Она сказала это тоном, не допускающим возражения, — презрительно, и презрение ее относилось не к Тому Орбэллу, а ко мне. Я почувствовал, что самолюбие мое задето. Не так уж приятно быть скинутым со счета. А эта молодая женщина, кажется, решила, что проку от меня все равно не будет. Ее, по-видимому, даже не интересовало, расположен я к вей или нет. Она просто не верила в меня. Если она еще верила в кого-то, то только в Тома.
Но, когда мы пришли обратно в читальню, даже она вынуждена была приостановить свое наступление. Том уселся в кресло и с блаженным видом принялся рисовать нам картины розового будущего — яркие, чудесные картины, главным сюжетом которых было изгнание с высоких постов недостойных лиц и водворение на их место лиц достойных — преимущественно из числа присутствующих, и, в частности, самого Тома. Я думал, что Лаура возьмется за него снова, как только они останутся вдвоем, но на этот вечер по крайней мере он себя обезопасил. Он сообщил нам, что остается ночевать в клубе, и в конце концов на мою долю выпало провожать Лауру до Пэлл-Мэлл и искать ей такси.
Она холодно простилась со мной. Ну что ж, думал я, идя по улице в поисках такси для себя, трудно придумать более неудачный вечер. Никто из нас троих своего не добился. Лаура не приперла к стене Тома. Ему не удалось сплавить ее мне. Однако и мои дела обстояли не лучше. Меня не слишком заинтересовала история ее мужа; мысль о том, что несправедливость подобного рода действительно могла произойти, даже не начала закрадываться мне в голову. Нет, об этом я вовсе не думал, но я испытывал легкое раздражение. Кому приятно, если на него смотрят, как на пустое место!
Глава II. Когда прошлое не волнует
Спустя несколько недель после вечера, проведенного в клубе Тома Орбэлла, я сидел в колледже, в служебном помещении брата. Это был мой традиционный визит. Я приехал в Кембридж на ежегодный банкет по случаю окончания ревизии, который приурочивался всегда к Михайлову дню и который я старался не пропускать. Со смешанным чувством покоя и отчужденности сидел я здесь гостем. Когда-то этот величественный зал времен Тюдоров служил столовой мне самому, и я провел в нем за дружеской беседой не один осенний вечер вроде сегодняшнего, когда из-под деревянной панели тянуло холодом и жар топившегося старомодного камина не достигал до окна, возле которого сидели сейчас мы с Фрэнсисом Гетлифом.
В кабинете рядом брат разговаривал с каким-то студентом, и мы с Фрэнсисом Гетлифом сидели вдвоем. Фрэнсис был года на два старше меня, а знакомы мы были еще с молодых лет. Я помнил его самолюбивым юношей, силой воли старавшимся побороть свою застенчивость. Лицо у него до Сих пор оставалось тонким и мечтательным; крахмальный воротничок и белый галстук подчеркивали темный загар. Однако успех сделал свое дело: щеки его чуть округлились и манеры стали свободнее. Вот уже несколько лет, как успех, которого он добивался честно и упорно с самого начала своей карьеры и который долго не приходил, внезапно стал улыбаться ему. Он был избран в члены Королевского общества, и во всем мире его имя произносилось с почтением — совсем как он мечтал когда-то. К тому же во время войны его научная работа приобрела чрезвычайно важное значение. Именно за эту свою работу, а не за отвлеченные исследования, он и был награжден орденом Британской империи, украшавшим сейчас его грудь. За все свои заслуги в совокупности он был возведен года два тому, назад в дворянское достоинство.
Он рассказывал мне о наших сверстниках, также добившихся успеха. В своих суждениях он всегда был совершенно беспристрастен, потому что строгое беспристрастие было одним из его принципов, но сейчас мне показалось, что он чуточку перебарщивает в этом. В его словах звучала подчеркнутая благосклонность, свойственная людям, преуспевшим в жизни, когда они говорят о других удачниках.
Из кабинета вышел Мартин. Он переоделся еще раньше и был в полном параде. Он сразу же начал обсуждать с Фрэнсисом студента, с которым только что разговаривал, — не сделает ли тот ошибки, переключившись с физики на металлургию? Мартина беспокоил этот вопрос. Он совсем недавно был назначен заместителем проректора и с головой ушел в свои новые обязанности. Он любил работать именно так.
В отличие от Фрэнсиса, престиж которого последние годы рос неуклонно, Мартин, казалось, застыл на одном месте. Несколько лет тому назад он чуть было не стал одним из руководителей атомного центра. Возможность эта представилась ему не потому, что он был ученым того же масштаба, что Фрэнсис, — ему никогда было не подняться до такого уровня, — а потому, что его считали человеком твердым, таким, на которого можно положиться. Думавшие так были недалеки от истины; тем не менее, ко всеобщему удивлению, он вдруг отказался от идущей к нему в руки власти и вернулся в колледж.
По-видимому, он примирился с мыслью, что карьеры ему уже не сделать. С тем же воодушевлением, с каким он говорил только что об успехах своего ученика, он отдался преподаванию — источнику своих доходов. Работа эта шла ему на пользу. Ему было около сорока, но на вид ему можно было дать меньше. Несмотря на то что он говорил с Фрэнсисом совершенно серьезно, о деле, в проницательных глазах его поблескивал саркастический огонек.
Затем он упомянул еще одного ученика — Говарта, и фамилия эта случайно всколыхнула в моей памяти воспоминание о чем-то давно забытом.
— Говарт, а не Говард? — спросил я.
— Говарт, а не Говард, — ответил Мартин.
— Дело в том, — сказал я, — что я кое-что слышал о вашем бывшем коллеге Говарде. В сентябре Том Орбэлл познакомил меня с его женой.
— Вот как! — заметил Мартин с непроницаемой усмешкой. — Правда, хорошенькая?
— Она во всеуслышанье жаловалась на какую-то вопиющую несправедливость. Вздор, наверное?
— Чистейший вздор, — ответил Мартин.
Фрэнсис же добавил:
— Это совершенно необоснованно.
— Она, по-видимому, считает, что исключили его в силу какого-то предубеждения. Однако в чем там было дело, я так и не понял.
— Тут и понимать нечего, — ответил Фрэнсис. — Он ведь в прошлом — да и в настоящем, надо полагать, — попутчик, и притом небезызвестный.
— Отсюда следует, что расположением кое-кого из наших коллег пользоваться он никак не мог?
— Если бы я хоть на минуту допустил, что это могло иметь решающее значение, я бы молчать не стал, — сказал Фрэнсис. — Надеюсь, тебе этого не надо объяснять.
Он сказал это несколько натянуто, но без обиды. Он не допускал и мысли, чтобы кто-нибудь из людей, знавших его, — я тем более, — мог усомниться в его честности. И то сказать, нужно было окончательно лишиться рассудка, чтобы усомниться в ней. В тридцатых годах сам Фрэнсис, как и многие другие его товарищи по науке, придерживался крайне левых взглядов. Теперь, окруженный почетом и уважением, он несколько поправел, но не слишком. В политике и он и Мартин по-прежнему оставались либералами и идеалистами. Так же как и я сам. В этой области между нами тремя разногласий не существовало.
— Не хочу, чтобы у тебя создалось ложное впечатление, — продолжал Фрэнсис. — В колледже к этому человеку многие относились неприязненно — что правда, то правда, — никуда от этого не денешься, и его политические взгляды, естественно, усугубляли эту неприязнь. Но исключили мы его, во всяком случае, не по этой причине. По этой причине, если хочешь знать, нам в первую очередь было очень трудно добиться его избрания. Пришлось откинуть в сторону церемонии и прямо сказать им, что политика политикой, но нельзя закрывать глаза на то, что это способнейший ученый.
— Чем, — вставил Мартин, — по-видимому, хвастаться нам теперь не приходится.
Фрэнсис криво усмехнулся, не оценив шутки.
— Что и говорить, — сказал он. — История получилась скверная! Человек вдруг взял и пошел на откровенный, ничем не прикрытый подлог. Что к этому еще прибавить!
Стараясь говорить по возможности популярнее, Фрэнсис рассказал мне об этом подлоге. Научный труд Говарда, опубликованный им в соавторстве с его прежним профессором — выдающимся старым ученым, ныне покойным, — вызвал ряд нападок со стороны американских ученых, работающих в той же области; в своих нападках они утверждали, что достигнуть тех же результатов при повторении опыта оказалось невозможным. Фрэнсиса и кое-кого из его коллег по Кевэндишу предупредили частным образом, что в фотографиях, опубликованных Говардом, было что-то «не то». Двое колледжских ученых — Найтингэйл и Скэффингтон — ознакомились с ними. Сомнений быть не могло — одна фотография, во всяком случае, оказалась, если можно так выразиться, поддельной. То есть фотография была увеличена, или, как сказал Фрэнсис, «раздута», и теперь выглядела так, словно на ней были запечатлены результаты совершенно другого опыта; и вот эта самая фотография стала решающим экспериментальным доказательством в научном труде Говарда.