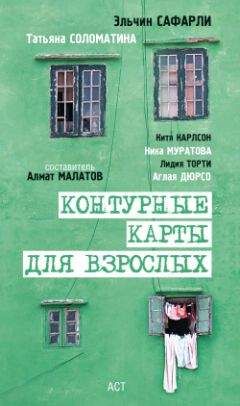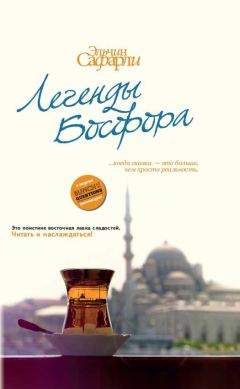Кемер, лето 2009
Новый дневник. Новые надежды. Новый, третий десяток жизни. Я все еще дышу. Все еще с тобою. Теперь ты окончательно переселился в мое сердце. И ты снова спасаешь меня, снова уступаешь мне свое место в очереди, как в тот, первый день нашего знакомства…
* * *
Сейчас я понимаю, как, оказывается, сильно соскучилась по вкусу ежедневной радости. Как в детстве, когда, догоняя мячик, оступаешься, падаешь на сухой летний асфальт, быстро вскакиваешь на ноги и, осмотрев коленки, с облегчением видишь, что, кроме пыли, на них нет ни крови, ни царапин. «Как хорошо!.. Значит, мама ругать не будет». Короткая мысль-вспышка приносит облегчение, а в кармане сатиновых шортиков имеются еще ириски, и мяч, колобок непослушный, наконец утихомирился у кромки тротуара…
Так неужели, чтобы вернуть вкус радости в каждое мгновение, нужно испить тридцать чашек горечи, выплакать тридцать литров слез? Наверное. Конечно, в моих тридцати литрах было много того, что окрыляло, вдохновляло, возрождало. Но жизнь учит нас противостоять, бороться, ценить то, что добыто с трудом, что делает из нас пусть и сильных, но – инвалидов. А впрочем, я не жалею, что все это случилось. Хуже было бы, если бы вообще ничего не случилось. И я бы не стала такой спокойной, рассудительной, зрелой женщиной. Я улыбаюсь себе в зеркале: «Вера, это же круто, ты теперь женщина с тридцатилетней историей! Как хороший коньяк. Столько и не живут, детка…»
По субботам рутинно наведываюсь в ту крошечную кафешку на перепутье трех дорог. На перепутье всегда кажется, что есть выбор, правда? Именно там, за кружкой пышного эспрессо, вспоминаю, что было в начале моего пути (а кажется, в другой жизни). О том, какой угловатой и дикой была. Как вспыхивала от двусмысленных шуточек одноклассников. О том, как читала в обледенелых троллейбусах умные книжки и выполняла «домашки», как носила на ладошках синие крестики – напоминалки о важных делах. Какие дела были для меня важными тогда?..
Как неумело подставляла под поцелуй губы в свой первый раз и как до ужаса стеснялась раздеваться. А потом сочиняла утомительно длинные стихи о том, что я готова зачерпнуть горстями утреннее небо, чтобы любовь моя, проснувшись, им умылась. И так далее, и так далее. О том, какой сложной столичной девочкой я была, в безразмерном свитере, с томиком Сартра под мышкой, как записывала в блокнот остроумные выражения, чтобы вставлять их в разговор при случае. То время состояло из массы ошибок, отвергнутых возможностей, досадно потерянных близких людей. И все же в нем было то, что испарилось сейчас, – очаровательное бесстрашие перед жизнью, бесшабашность… В тридцать наступает трезвость…
В тридцать вычеркиваешь из списка вредных привычек такой пункт, как «самообман». В тридцать окончательно уясняешь правила жизни и, перебирая старые фотографии времен вызывающей театральщины во внешности и поведении, грустно улыбаешься, только лишь удивляясь: «Ну надо же…» В тридцать перестаешь искать себе выражение через образ – хочешь, наоборот, дотянуть себя до выбранного образа. Транслировать в эфир свою благополучность. Дрессируешь себя: не огорчаться, сидеть с прямой спиной, выбирать здоровые блюда, не курить натощак. В тридцать все обиды, разочарования юности обесцениваются, воспоминания о них начинаются теперь с легких, ностальгических вводных слов «а помнишь…»
Сегодня, завершая эту повесть моей жизни, я чувствую себя умиротворенной, хотя и осталось еще над чем работать. Всему свое время. Я счастлива. Не слепо, по-настоящему. Да, я еще до конца не разучилась запивать сигареты крепким кофе, не начала есть вовремя и исключительно правильную пищу, не перестала скупать платья угрюмых цветов на сейлах. Зато я с гордостью говорю: «Я счастлива». Слова, которые не принято произносить вслух то ли потому, что само счастье – дефицитный товар, то ли из-за боязни сглазить…
* * *
Теперь у меня есть мандариновый сад. Так много спокойной уверенности в слове «теперь» – с него начинаются мои осуществленные мечты. Долго я шла к этому, не раз простужаясь на холодном ветру, вытряхивая камушки из туфель, путаясь и сбиваясь с пути. Теперь я провожу вечера с биноклем в руках в подвесном плетеном гамаке – охраняю вооруженным взглядом кусочек побережья Средиземного моря, вид на который выпал на долю балкона в моем старинном домике. Я приветствую горящее марево заката, расстегиваю верхние пуговицы клетчатой рубашки и вдыхаю прохладный бриз, смешавшийся с терпким ароматом недозрелых цитрусов, упиваясь масштабом собственного счастья.
За спиной шумно колышутся разноцветные блузки на балконной веревке, из недр гостиной доносятся творческие вздохи отсыревшего орехового пианино, а на старинном, видавшем виды дубовом столе (с приходом лета выношу его на балкон) остывает кружка травяного чая с цветочным медом.
Мой старый двухэтажный домик из побелевшего кирпича пережил многое, служил многим. Если прислушаться, то можно услышать у его стен десятки разных голосов. Лирические меццо-сопрано, грустные, отчаянные, принадлежащие женщинам разных поколений, вынужденным ждать и помнить, служить и прощать. Жизнерадостные баритоны добродушных и влюбленных в жизнь простоватых, хозяйственных мужчин. Писклявые детские голоса, капризные, бойкие, настойчивые. Плач бессонных младенцев, бархатные грудные ноты кормилиц, поющих колыбельные. Растресканные, будто старый сосуд, глухие старческие голоса, сетующие на неумолимый бег времени. Эхо бывших обитателей дома. Совсем не злое, спокойное, мирно живущее в этих стенах эхо. Я ничего против него не имею. Тем более, голоса эти почти не слышны из-за дыхания моря…
Долго решала – снять его или нет. В день по нескольку раз приходила к дому, оглядывала грустного, тоскующего по новым жителям старца. Конец моим визитам положила пожилая женщина с лицом, сияющим в обрамлении скромного платка. Появилась она буквально из ниоткуда и, словно прочитав мои мысли, сказала: «Не беспокойся, доченька, он добрый. В нем много счастья». Я еще подумала: правильно ли поняла ее слова, не услышала ли то, что хотела услышать? Да и была ли она вообще, эта пожилая женщина, или это мой мозг задымился в сорокаградусную жару?
Дом я сняла, а со временем решила его выкупить. Назвала его hombre.[6] Он действительно стал мне самым близким другом. На Востоке принято считать, что друзья – те, с кем тепло. В объятиях hombre я нашла настоящее семейное тепло, хотя сквозняки – неотъемлемая часть его истории…
Сегодня первая годовщина моего переезда сюда. Я с легкой тоской вспоминаю тот день, когда меня провожал дождливый Стамбул, и ту злодейку луну, катающуюся в иллюминаторе самолета, словно желток в огромной синей миске. Тоска по прошлому – как залежавшийся изюм. Ее смягчает живая вода настоящего…
* * *
По утрам вместе с Томом я спускаюсь к морю. День только пробуждается, купаясь в мутном белесом тумане, на который словно бы нанесли бледную мозаику с живописными орнаментами здешних мест. Кажется, что яркие краски никогда не смогут проступить сквозь утренний отвар. Но солнце наверху знает свою работу, оно расставит все по местам и совершит свой ежедневный круг почета, задавая ритм всей планете.
Иду по тропинке из выжженной травы, огибая кустарники диких роз. Мне жалко срывать миниатюрные бутончики, но иногда я все-таки не выдерживаю и отламываю пару колючих веточек с красно-бордовыми соцветиями на конце. Прячу их за спиной, будто готовлюсь сделать кому-то сюрприз. А потом оставляю розы на камнях побережья. Они будут смыты волной. Той же ночью, когда ветер наведается в Кемер, в мой турецкий город-спаситель у самого сердца Таврских гор.
Турецкий десерт из риса и молока, наподобие рисовой каши.
Турецкий бублик, усыпанный семенами кунжута.
Прохладительный напиток из йогурта с добавлением соли и мяты.
Лавки (араб.).
Она гуляла у океана и ждала звезду, чтобы поймать ее (англ.).
Дружище (исп.).