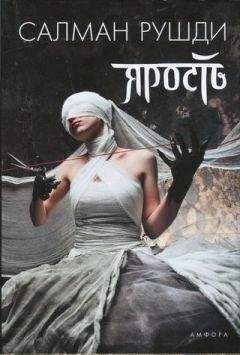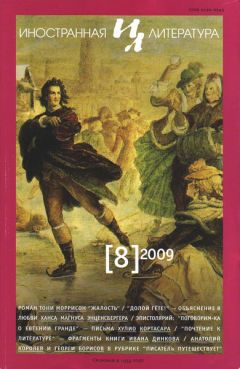Время никак не желало подчиняться расчетам Сиксо, и совладать с ним он не мог. Однажды, с точностью до минуты рассчитав тридцатимильный поход на свидание с женщиной, он вышел в субботу, когда луна была как раз там, где ей и полагалось быть, добрался до хижины своей возлюбленной еще до того, как в церкви зазвонили к обедне, и ему как раз хватило времени, чтобы поздороваться с ней и тут же отправиться назад, чтобы успеть к утренней перекличке в понедельник. Он шел пешком семнадцать часов, потом посидел у нее ровно час и прошагал еще семнадцать часов в обратном направлении. Весь день Халле и все остальные старательно скрывали от мистера Гарнера, как Сиксо измотан. В тот день они, разумеется, никакой картошки не ели – ни простой, ни сладкой. Растянувшись под Братцем, спрятав от них свой ярко– красный язык и иссиня-черное лицо, Сиксо весь обеденный перерыв проспал как убитый. Вот что такое мужчина и вот что такое дерево! Куда им до них! И сам он, и «дерево», возле которого он лежит, – оба не настоящие.
Поль Ди посмотрел в окно над изножием кровати и закинул руки за голову. При этом его локоть коснулся плеча Сэти. Она вздрогнула от прикосновения грубой материи к своему голому плечу. Она и забыла, что он так и не успел снять рубашку. Собака, подумала она и тут же вспомнила, что сама помешала ему. И что сама не успела снять нижнюю юбку, а ведь она-то начала раздеваться еще до того, как увидела его на веранде, – сняла и чулки, и башмаки, да так и несла их в руках, пока он не посмотрел на ее босые ноги и не попросил разрешения тоже разуться. А потом, когда она стряпала у плиты, он еще больше ее раздел. Так что если учесть, как скоро они принялись скидывать с себя одежду, то уж могли бы скинуть ее всю. Впрочем, возможно, Бэби Сагз была права, когда говаривала: «Мужчина – это всего лишь мужчина, и ничего больше». Они просят тебя передать им какую-то часть твоего бремени, но стоит тебе ощутить, как приятно и легко тебе стало, как они начинают всматриваться в твои шрамы и оценивать твои тяготы, а потом делают то, что этот вот уже сделал: выгнал ее детей из дому и разнес все вдрызг.
Нет, просто необходимо встать и уйти отсюда, спуститься вниз и поскорее снова собрать все по кускам. Этот дом, сказал он, нужно сменить, словно дом – это какая-то мелочь, блузка или корзинка с нитками, словно от дома можно запросто отвернуться и уйти. И такое он посоветовал ей, у которой никогда не было своего дома – кроме вот этого; она бросила свою хижину с земляным полом ради того, чтобы оказаться здесь; она каждое утро непременно приносила с собой на кухню в доме мистера Гарнера букетик козлобородника – чтобы, работая там, хоть в какой-то степени чувствовать, что это место принадлежит и ей, потому что ей хотелось любить свою работу, хотелось чувствовать себя на кухне уютно, уверенно, и по дороге она срывала какой– нибудь цветочек и прихватывала с собой. В те дни, когда она забывала это сделать, масло у нее не желало сбиваться, рассол в бочке оказывался слишком крепким, и все руки покрывались волдырями.
По крайней мере, она тогда считала, что все дело в этом. Несколько желтых цветочков на столе, пучок миртовых веточек, торчащих из утюга, придвинутого к открытой двери, чтобы пропускать в дом свежий ветерок, – все это действовало на нее благотворно, и, когда они с миссис Гарнер усаживались перебирать щетину или готовить чернила, ей было хорошо. Очень хорошо. Она совсем не боялась тех мужчин. Тех пятерых, что спали в лачугах неподалеку, но к ней никогда ночью не заходили. Только приподнимали свои обтрепанные шляпы, завидев ее, и смотрели во все глаза. Когда она приносила им в поле еду, копченую грудинку и хлеб в чистой тряпице, они никогда ничего не брали прямо у нее из рук. Отступали и ждали, когда она положит сверток на землю, у корней дерева, и уйдет. Они не только не желали брать еду у нее из рук, но и не позволяли ей смотреть, как они едят. Раза два-три она задержалась – спряталась за жимолостью и наблюдала за ними. Без нее они были совсем другими – смеялись, подшучивали друг над другом, пели, отходили в сторонку, чтобы помочиться. Посмеяться любили все, кроме Сиксо, который засмеялся только один раз в жизни – в самом ее конце. Лучшим из них, конечно же, был Халле. Восьмой, и последний ребенок Бэби Сагз, который брался за любую работу на соседних фермах, чтобы выкупить мать и отправить подальше от Милого Дома. Но и он тоже, как оказалось, был не более чем мужчиной.
– Мужчина – всего лишь мужчина, – говорила Бэби Сагз. – А вот сын – это уже и правда кое-что!
И справедливо это было по множеству причин: в течение всей своей жизни Бэби, как, впрочем, и Сэти, ощущала, что ею и другими мужчинами и женщинами манипулируют как при игре в шашки. Все, кого Бэби Сагз знала, не говоря уж о тех, кого она любила, – если им не удалось убежать или их не повесили, – могли быть сданы внаем, отданы другому хозяину в уплату долга, проданы, выкуплены, выставлены на продажу, заложены, выиграны в карты, украдены или конфискованы. Именно поэтому у восьмерых детей Бэби было шестеро отцов. Вот что она называла «паскудством жизни» – ужасное сознание, что никто не перестанет передвигать шашки по доске из-за того, что в игру включены теперь ее дети. Халле она сумела удержать при себе дольше всех остальных. Двадцать лет. Целую жизнь. Его отдали ей – явно в виде компенсации, – когда она узнала, что две ее девочки, у которых еще молочные зубки не выпали, проданы и уже увезены. Она даже не смогла помахать им рукой на прощанье. Когда-то, тоже в качестве компенсации, помощник хозяина, жалкий тип, который целых четыре месяца развлекался с ней как хотел, позволил ей оставить при себе третьего ребенка – а потом, следующей весной, мальчика продали в уплату за пиломатериалы, а она оказалась беременной от этого негодяя, пообещавшего, что мальчика не продаст, и все-таки продавшего. Ребенка от этого человека она любить не могла, а остальных – не позволяла себе. «Господь сам возьмет то, что захочет», – говорила она. И Он брал, Он брал, Он брал, но потом все-таки дал ей Халле, который подарил ей свободу, когда она уже почти ничего для нее не значила.
Сэти на удивление повезло – ей достались целых шесть лет замужней жизни с Халле, который действительно «был кое-чем» – сыном Бэби Сагз и отцом всех ее детей. Этой Божьей милости она безоговорочно и беспечно поверила, приняв ее как должное; сочла Милый Дом своим убежищем, словно это действительно могло быть так Словно пучок миртовых веточек, сунутых в утюг, который подпирал дверь на кухне господского дома, способен был превратить этот дом в ее собственный. Словно листочек мяты, взятый в рот, меняет все у тебя внутри, а не только придает аромат твоему дыханию. Да, большей дуры, чем она, на всем свете не сыскать!
Сэти хотела было перевернуться на живот, но передумала. Она опасалась вновь привлечь к себе внимание Поля Ди, так что довольствовалась тем, что скрестила поудобнее ноги.
Однако Поль Ди заметил и ее движение, и то, что она стала дышать иначе. Он чувствовал себя обязанным попробовать еще раз и действовать медленнее и спокойнее, но желание куда-то пропало. На самом деле было даже приятно не желать ее. Двадцать пять лет – и одно мимолетное мгновенье! Вот так же получилось и у Сиксо, когда он все подготовил для свидания с Патси, женщиной с тридцатой мили. Ему потребовалось три месяца и два похода – тридцать четыре мили туда и обратно, – чтобы исполнить задуманное. Чтобы убедить ее пройти ему навстречу всего одну треть этого долгого пути до заброшенной каменной постройки, которую он отыскал. В незапамятные времена в ней жили краснокожие, считавшие тогда, что вся эта земля принадлежит им. Сиксо обнаружил заброшенное строение во время одной из своих ночных вылазок и вежливо попросил разрешения войти. Войдя внутрь, он почувствовал то, что это за дом, и спросил у духов некогда обитавших здесь краснокожих, можно ли ему привести сюда свою женщину. Духи не возражали, так что Сиксо самым тщательным образом разъяснил своей подружке, как туда попасть, где свернуть и каким свистом он позовет ее, а каким предупредит об опасности. Поскольку ни он, ни она не могли отлучаться от своих ферм без разрешения и поскольку той женщине с тридцатой мили уже минуло четырнадцать и ее собрались отдать другому мужчине, опасность была и в самом деле велика. Когда Сиксо прибыл в условленное место, Патси там не оказалось. Он посвистел, но безрезультатно. Заглянув в заброшенный индейский дом, не обнаружил ее и там. Он снова вернулся туда, где они договорились встретиться. Никого. Он еще подождал.
Она не появлялась. Он совсем перепугался и двинулся по дороге ей навстречу, прошел три или четыре мили и остановился. Идти дальше было совершенно бессмысленно. Он стоял на ветру и молил о помощи, вслушиваясь в каждый звук. И тут услышал слабое хныканье. Он свернул с дороги, немного прошел на этот плач, подождал и, снова услышав его, потерял всякую осторожность: он громко окликнул ее по имени. Она ответила, и голос ее прозвучал для него как сама жизнь – не как смерть. «Не сходи с места! – крикнул он ей. – Дыши чаще и глубже, я тебя отыщу». И отыскал. Она была уверена, что пришла туда, куда нужно, и плакала, думая, что он не сдержал своего обещания. Однако теперь идти в индейское каменное жилище было уже слишком поздно, так что легли там, где стояли. Потом он до крови проколол ей кожу на лодыжке, как если бы ее укусила змея, – чтобы ей было что сказать по поводу своего опоздания на табачную плантацию, где она обирала с листьев гусениц. Он очень подробно рассказал ей, как можно сократить путь, если идти вдоль ручья, и немного проводил ее. Когда он выбрался на дорогу, было уже совсем светло, а он так и не успел одеться и нес свою одежду в руках. Вдруг из-за поворота прямо на него выкатилась повозка. Возница вытаращил глаза и замахнулся кнутом, а сидевшая рядом с ним женщина стыдливо прикрыла лицо. Но Сиксо нырнул в лес прежде, чем кнут успел полоснуть по его иссиня-черной голой заднице.