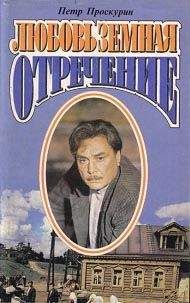Младший Обухов всегда был честен в проявлении своих чувств и привязанностей, это сыграло потом не такую уж и положительную роль в его судьбе — ученого и человека; он и сейчас, бесцельно бродя по начинавшей обледеневать Москве, и, уже выйдя на набережную, поднявшись куда-то по заснеженным широким ступеням, вдруг уткнувшись в высокий забор с широким козырьком поверху, растерянно остановился. Дальше идти было некуда, ему уже что-то громко и зло кричали от угла забора; к нему бежал солдат в жиденькой шинелишке, в сапогах и с длинной винтовкой, запретительно махая рукой, приказывая ему отойти от забора и следовать дальше своим путем. Было странно и больно и страшно, но именно в этот момент, он, кроме саднящей, кровоточащей утраты, почувствовал и освобождение от отца; в нем словно все разделилось надвое, и тогда он сказал себе, что это черное и страшное чувство скорее всего оттого, что теперь уже впереди никого больше нет, теперь только он сам остался впереди.
— А ну, гражданин, проходите! — запыхавшись, почти прокричал ему подбежавший солдат с заиндевевшими бровями и ресницами, с явным недоверием глядя на обнаженную голову, на пунцовые уши, нелепо торчащие над шарфом странного прохожего в легком длинном, каком-то поповском пальто. — Здесь нельзя, закрыто на ремонт!
— Пожалуйста, — равнодушно сказал Обухов. — Я что-нибудь сделал не то?
— Проходи, проходи! Здесь задерживаться нельзя, — вновь потребовал караульный, и в тот же момент к Обухову с другой стороны подошел уже старший, весь в коже, в ремнях и с маузером на боку, с узким лицом — из-под козырька теплой, с наушниками фуражки льдисто светлели острые глаза.
— В чем дело? — спросил узколицый, обращаясь больше к караульному, чем к Обухову, одним взглядом окидывая, словно фотографируя, нелепую, длиннополую фигуру студента.
— Да вот, товарищ Тулич, пришел и стоит…
— Простите, ничего я не пришел и не стою, — счел нужным пояснить Обухов. — Просто я часто здесь ходил, а теперь здесь забор. Вот и все…
— Придется обойти, — коротко бросил Тулич, — вот направо по набережной и дальше.
С молчаливой иронией поблагодарив за дельный совет, Иван пошел по ступеням вниз и уже с набережной оглянулся; караульный и его начальник в крепкой, подбитой чем-то теплым коже продолжали смотреть ему вслед, а вверху в метельном, ветреном небе, в разрывах туч над забором возносилась громада храма, в снежных вихрях в облаках угадывался его изуродованный верх. И тогда усилившееся до какой-то пронзительной ноты чувство утраты обожгло Ивана, выдавило на глаза слезы, и он, отвернувшись от ветра, опасаясь еще раз оглянуться, почти побежал прочь, нырнул в первый подвернувшийся переулок, затем в подворотню и опять оказался во дворе, забитом народом и военными — жителей всех близлежащих домов на время эвакуировали. Плакали дети, переругивались с милиционерами женщины; затаившиеся, но так и не сломленные московские старухи, обмотанные платками, крестились и грозились страшным судом; какой-то взвинченный нервный старик в пирожке и пенсне неожиданно остановил Обухова, когда тот проходил мимо.
— Вандалы! Вандалы! — прошипел он и без того растерянному студенту. — Поистине, диавол явился в мир!
— Простите. — Студент протиснулся в темный, заледенелый мусором дворовый проход, по прежнему видя перед собой беспощадные, льдистые, безоговорочно обрекающие глаза военного в коже, глаза явно нездорового человека, и продолжал их помнить долгое время, и через неделю, и через месяц, пока повседневная жизнь, ее заботы, молодость, горячие схватки на факультете не вытеснили из памяти эту тяжелую мимолетную встречу на зимней набережной возле храма. Сам же Тулич, комиссар отряда особого назначения, тут же забыл о длиннополой нелепой фигуре студента, одного из бесчисленных московских жителей. До назначенного срока оставались всего сутки, и нужно было проверять все, вплоть до последней мелочи. Конечно, за техническую сторону дела отвечали другие, но и здесь необходимо было смотреть да смотреть; надежным людям из спецгруппы Тулича, знающим подрывное дело, особые инструкции предписывали находиться и при пробивании шпуров в теле храма, и при начинке их взрывчаткой, и при подводке детонирующих электрических шнуров, и при установке приборов для регистрации колебаний почвы во время взрывов.
Каждые два часа приходилось докладывать о выполненной работе и своему начальству, и Кагановичу, и когда, наконец, подошел срок, у Тулича, от почти недельного недосыпания, от каменной пыли и резкого зимнего ветра, была непрерывная резь в глазах, и он часто кашлял. Но теперь с каждой минутой близился намеченный час, и Тулич, стоявший недалеко от техника-подрывника, сделал шаг в сторону, стараясь не упустить из виду главный барабан храма; Каганович, тоже выбрав самую удобную для наблюдения точку Боровицкого холма, откуда хорошо просматривался и храм, и происходящее возле него, торопливо поднес к глазам цейсовский бинокль, неоднократно от нетерпения отлаженный. Главный купол храма, придавленный низким небом, резко рванулся к глазам, и Каганович, слегка невольно отшатнувшись, быстро повел биноклем, выправляя его, и стал опять неотрывно смотреть на купола; в этот самый момент техник, невзрачный, маленький, непрерывно шмыгая красным от простуды носом, вопрошающе оглянулся на Тулича, и тот, преодолевая в себе минуту странной слабости, взглянул на часы и кивнул. Словно обрадовавшись освобождению, техник торопливо повернул ручку взрывной машины. Почти тотчас верхние окна главного барабана брызнули осколками стекла, из нижних окон, выдавленных взрывом, поползли клубы тяжелой бурой пыли и дыма, но храм лишь слегка вздрогнул. Маленький техник, виновато покосившись в сторону начальства и отсморкавшись, стал подсоединять к своей неказистой машинке концы очередной линии проводов, помеченных вторым номером. Он нервничал, гримасничал, то и дело испуганно поглядывая на Тулича, шмыгал носом; через полчаса он вторично крутанул рукоятку своей машины. Теперь и Тулич, и расставленные вокруг храма в разных местах караульные, и даже Каганович на своем наблюдательном пункте на Боровицком холме, казалось сросшийся с биноклем, увидели тяжело вздрогнувший главный барабан — был подорван второй несущий столб. Из верхних и нижних окон опять выдавило густые клубы дыма и пыли, неровной лавиной потекшие вниз к основанию храма; взрывная волна ушла в глубины и пустоты древнего Чертолья, докатилась по тайным, давно заброшенным и забытым подземельным ходам до самого Кремля и теми же путями — к дому Пашковых. В одном из забытых древних подземелий от сотрясения просыпались со стены, сразу же обращаясь в прах, державшиеся в старых ржавых железах, навечно замурованных в стенах, истончившиеся от времени человеческие кости; неведомая даль веков перекликалась с происходящим.
Храм не хотел умирать совсем, послышалось гудение его немногих уцелевших и теперь потревоженных колоколов. На окрестные улицы и дворы стал высыпать народ — дети, старухи, женщины, старики. Весть уже катилась по Москве, и везде, откуда был виден храм, появлялись люди, они выходили на балконы, прилипали к окнам домов, крестились и плакали. Среди белого дня, на виду всей Москвы, на глазах народа, рушили храм, воздвигнутый во славу отцов и дедов, во славу их обильно пролитой на ратных полях крови, — это подавляло окончательно.
Чувство скорби и мрака поползло над оскорбленной и обесчещенной Москвой, проникая сквозь все преграды и достигнув, наконец, самих инициаторов и исполнителей этого злодейского дела, заставившего ужаснуться просвещенный мир.
Предвидя нагоняй от самого хозяина, Каганович стал звонить и, подогревая себя, кричал в трубку о предательстве, о самых невероятных карах и наказаниях за саботаж, а затем и вовсе зашелся в дикой матерщине, к ужасу и без того потерявшего дар речи главного инженера «Союзвзрывпрома», ведомства уникального и архиреволюционного, призванного продолжить безжалостное разрушение отжившего мира российского и мирового мракобесия. Главный инженер, проклиная себя за недогадливость заболеть на несколько этих смутных и грозных дней, в ответ только нечленораздельно выкрикивал на разные лады: «Лазарь Моисеевич! Лазарь Моисеевич! Исправим! Сделаем! Лазарь Моисеевич! Исправим! Сейчас же исправим! Головы сниму!»
Когда Каганович бросил трубку, взмокшего с ног до головы главного инженера бил нервный озноб; еще большая растерянность и паника охватили непосредственных исполнителей. Простуженный техник наотрез отказался от дальнейшей работы; у него в одночасье обметало губы, веки покраснели и распухли, и разбираться в клеммах и проводах пришлось другим. Шли дорогие минуты, и на Боровицком холме уже опять появилась коротконогая черная фигура Кагановича с биноклем; за ним в почтительном отдалении толпилось еще несколько человек, пританцовывая от мороза и проклиная непокорный храм, все они, и помощник Кагановича по горкому, и начальник его личной охраны, и два консультанта, взятые на всякий случай, и трое связных, все, как один, в довольно высоких чинах, думали сейчас о своих неудобствах и с нетерпением ждали завершения и возможности разойтись и разъехаться по другим своим делам, и никто из них, в том числе и сам Каганович, и представить себе не мог, что рубеж этот будет отмечен всем человечеством как акт вандализма, что та самая партия, которую они провозглашали самой прогрессивной и передовой силой в мире, этим своим очередным деянием будет еще раз заклеймена как бессмысленная разрушительная сила и что народ, который они уже во многом обескровили и привели в нужное для своих целей покорное и тупое состояние и о котором они думали как о безропотном и безгласном строительном материале, но который все равно хранил в не доступных никому тайниках запасы сил на самый крайний, последний случай, хранил неприкосновенные возможности возрождения, никогда им этого не простит и не забудет. И никто из многочисленных изолгавшихся и тайно ненавидящих друг друга вождей и подумать не мог, что стихия народного бытия сама по себе являлась сокровенной тайной, что только сам народ, в отличие от любых гениальных теоретиков, как правило, бесплодных, генерирует и хранит в себе опыт подлинной, реальной жизни, и его душа развивается только исходя из гармонии и смысла личного национального опыта, и что любой человек, даже самый никудышный, с порочными началами, волей-неволей, но подчинен именно этому закону, и даже творя злые дела, действует согласно ему. Очевидно следует добавить, что именно вожди, залитые с головы до ног кровью, и не могли так думать — каждый выполняет то, к чему его подготовила жизнь, и ничего иного он сделать не может.