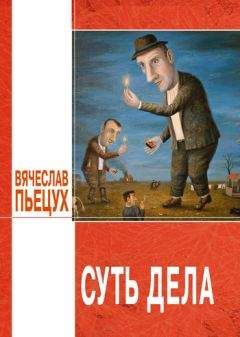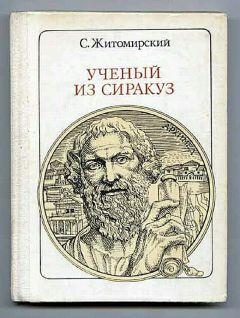А впереди еще были бунтарские пирушки на квартире у студента Александра Ивановича Герцена, такие обильные, что наутро дядька Александра Ивановича спрашивал с укоризной:
– В ниверситет-то нынче, должно быть, отложим попечение?..
Впереди были печальные писания Петра Яковлевича Чаадаева, горестный нагоняй своему отечеству, сконцентрированный в трех положениях, как христианство в пяти символах веры: «В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу… Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его… Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы»; за этот нагоняй Петра Яковлевича, как известно, официально провозгласили сумасшедшим, затем он, кажется, и вправду сошел с ума, однако его символ веры уже исправно подливал масло в огонь будущих потрясений. Впереди были горячие пятницы титулярного советника Буташевича-Петрашевского, посещаемые молодыми офицерами и литераторами, впоследствии назвавшие себя «апрелистами», так как их взяли в апреле 1849 года, и бессовестная инсценировка расстрела на Семеновском плацу, которую дотошно описал Федор Михайлович Достоевский. Словом, все еще было впереди, все как раз только начиналось, ибо сила властей – ничто по сравнению с силой истории, и не зря император Николай Павлович, умирая от воспаления легких в своем дворце, на антресолях первого этажа, под простой солдатской шинелью, на простой железной койке, из-под которой торчали рваные домашние туфли, сетовал на то, что он всю жизнь делал одно, а выходило совсем другое.
Прошло несколько часов: на дворцовую башенку, где стоял телеграфный аппарат, села большая черная птица, которые водятся только в Финляндии, великая княгиня Александра Иосифовна с князем Борятинским встретили в Гатчине привидение, в Москве с Ивана Великого свалился огромный колокол, расплющивший двух купцов, и по знаку этих темных предзнаменований одиннадцатый по счету российский император Николай Павлович Романов-Голштейн-Готторпский испустил дух. Он отходил в нежизнь с чувством вины, и в этом нет ничего удивительного, поскольку больше Николая I для грядущих революций сделал только его правнук Николай II, император четырнадцатый и последний.
5
Самое простое, поверхностное, глубоко неоригинальное заключение, которое вытекает из обзора зимних событий двадцать пятого года, будет следующее заключение: восстания в Санкт-Петербурге и во 2-й армии потерпели поражение потому, что российская монархия была еще достаточно жизнестойкой, а революционная оппозиция показала себя ограниченно боевой, или, иначе говоря, потому, что к 1825 году в России еще не было таких людей и такой политической силы, которые смогли бы покончить с самодержавием. Однако первая же попытка проникновения в глубь событий наталкивает на ту мысль, что потому-то в это время и не было политической силы, способной покончить с самодержавием, что еще не созрел сообразный задаче человеческий материал, поскольку так называемые предпосылки к уничтожению системы единовластья, можно сказать, были налицо уже к 1730 году, когда на нее покусились верховники, а декабризм, что называется, по идее представлял собой политическую силу гораздо даже более солидную и организованную, чем победоносные парижские лавочники, испанские конституционалисты или пьемонтские карбонарии. Следовательно, прийти к сколь-нибудь убедительному анализу зимних событий двадцать пятого года можно только опираясь на тот логический принцип, в силу которого, положим, гроза – это много сложнее, нежели взаимодействие разнозаряженных облаков, то есть по возможности разбирая эти события, как машину по частям, на персональные составные. Такой подход к делу обеспечивает следующий результат: наши первые революционеры проиграли сражение с самодержавием потому, что, с одной стороны, Николай Павлович и его ближайшее окружение повели себя по-хозяйски, решительно и жестоко, в ключе лозунга «патронов не жалеть», во время переприсяги и на Сенатской площади тупо-энергично действовало большинство полковых командиров, рейткнехт Лондырь, конно-пионерный унтер Мейендорф и еще несколько тысяч солдат машинально исполняли распоряжения командиров, поручик Философов добился выдачи из артиллерийской лаборатории боевых зарядов, а штабс-капитан Бакунин без колебаний открыл огонь, потому, что генерал Гейсмар предпринял против черниговцев решительную атаку, штабисты 2-й армии хитро распорядились, отведя егерей из опасной зоны, и так далее, и так далее. С другой стороны, сражение с самодержавием было проиграно потому, что застрельщики дела готовились к нему, как говорится, спустя рукава, что Якубович с Каховским в последний момент отказались от цареубийства, Михаил Пущин, разочаровавшись в успехе, не поднял свой эскадрон, Рылеев вдруг потерялся, князь Оболенский оказался никудышным руководителем, в Трубецком не ко времени заговорила древняя кровь, и он не осмелился поднять руку на установления предков, Щепило, Сухинов, Кузьмин, Соловьев не к месту погорячились и вынудили восстание, когда оно еще не созрело, Сергей Муравьев-Апостол не проявил должной расторопности и вообще водил полк вслепую, Артамон Муравьев по-человечески отсырел, Повало-Швейковский самым пошлым образом струсил, Пыхачев предал своих товарищей и так далее, и так далее. Из этого перечисления личностных векторов, на которые легко разбираются революционные выступления двадцать пятого года, прежде всего вытекает то, что понять суммарную причину тогдашней катастрофы – значит еще и понять тогдашнего человека, поскольку история, как уже было замечено, действует исключительно через человека, и ее промежуточные итоги слишком зависят от нравственных показателей, как сила тока от сечения проводника.
Вполне проникнуть русского человека, жившего сто шестьдесят лет назад, задача, понятно, монументальная, ибо он так же не похож на нынешнего русака, как нынешний русак, скажем, на готтентота. У русского человека, родившегося в конце XVIII или начале XIX столетия, и тип лица был совсем иным, и говорил он по-другому, протяжно, неторопливо, произнося многие родные слова на неблизкий лад, как в случае со словами «женшина», «нослег», «перьвый», и даже существовало особое дворянское произношение, которое предусматривало носовые оттенки для звонких согласных и нарочитое округление слов до предела их полной неузнаваемости, как в случае с обращением «чэ-а-эк». Этот наш предок был собственником, что называется, до мозга костей, в гораздо большей степени немцем, чем даже современные аферисты, немного царьком, если не в масштабах канцелярии или поместья, то на худой конец у себя в семье, он мог без колебаний застрелить дальнего родственника из-за двусмысленного комплимента и на людях, как правило, вел себя неестественно.
Несмотря на то что русак полуторавековой давности много доброго и недоброго оставил в наследство современному русаку, он до такой степени малодоступен нам как духовный и психический феномен, что проникнуться им можно только при значительных допусках на логическое обобщение и догадку. Тем более что, по сути дела, единственный источник познания русака полуторавековой давности – его собственные поступки.
Впрочем, коэффициент духа или человекочеловеческий знаменатель для тех сил, которые зимой 1825 года действовали в охранительном направлении, выводится относительно просто: поскольку над этими силами тяготела традиция, поскольку на императора Николая Павловича работало обаяние его бесконечной власти и поскольку за подчинение его обаянию платили, а за неподчинение наказывали, то глупым, скудно образованным, оголтело дисциплинированным и даже умным, по-своему нравственным, но малодуховным людям было выгодно действие в охранительном направлении, восходящее в конечном итоге к банальным идеалам сытости и покоя. Стало быть, человекочеловеческий знаменатель для поручика Философова, штабс-капитана Бакунина, рейткнехта Лондыря, конно-пионерного унтера Мейендорфа и еще многих тысяч русских людей, выступивших против декабристов на севере и на юге, будет некая побудительная величина, которая опирается на инстинкт самосохранения, как формула на константу. Кроме того, на стороне Николая Павловича была сила, не поддающаяся никакому анализу, а именно вопиющая, наступательная безнравственность, таинственная и неутолимая, как психическая болезнь. Чтобы хоть сколько-нибудь ощутить историческое значение этой силы, следовало бы присмотреться к какому-нибудь ее представителю, скажем, к Ивану Васильевичу Шервуду-Верному, выдавшему Южное общество декабристов.
Шервуд приехал в Россию двухлетним ребенком вместе с отцом, которого еще император Павел выписал из Кента на должность механика Александровской мануфактуры. Войдя в возраст, Иван Шервуд сначала служил домашним учителем у смоленского помещика Ушакова, у которого между делом совратил дочь, а затем поступил унтер-офицером в 3-й Украинский уланский полк, одновременно прирабатывая на стороне по механической части – это у Шервудов было, видимо, родовое. На падшей Ушаковой он, впрочем, потом женился.