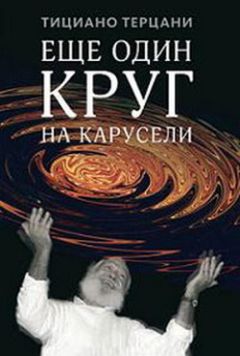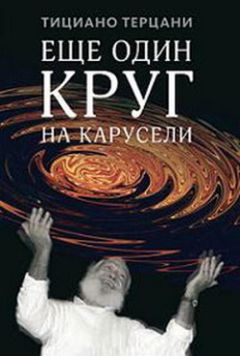— Это карма, оставшаяся от предыдущих жизней, — сказал он. — Против этого ничего не поделаешь.
Он устроил дочь в комнате с кондиционером, и она оттуда почти никогда не выходила. Кхун утверждал, что ее кожа ужасно боится солнца, а мне показалось, что это он сам опасается, как бы люди не усомнились в его способностях великого целителя.
— Эх, журналистом ты был, им и остался. Непременно тебе надо рассовать все по полочкам, — сказал Дэн на обратном пути.
Вообще-то он мог говорить мне все, что угодно, и сколько угодно (что возьмешь с гуру «нью-эйдж»!), но я его все равно любил. Кроме того, я был благодарен ему за то терпение, с которым он обучал меня цигуну.
В то утро после упражнений мы уселись на веранде попить его вкусного чая. Мы понимали, что можем больше никогда не увидеться, и Дэн, говоря о гимнастике цигун, которая скрепила нашу с ним дружбу, сказал в виде напутствия:
— Очень тебя прошу, делай упражнения каждый день. Чтобы ни случилось, до последнего вздоха.
Что ж, этому совету я охотно бы последовал.
Потом мы говорили о нашей первой привязанности, которая нас много лет назад объединила: о Китае. С ним у каждого из нас сложились совсем разные отношения. Я жил там, ввязался в драку, разочаровался. Он, хоть и провел несколько лет на Тайване, всегда сознательно отстранялся от реального Китая.
— Только так мне удалось выжить, — объяснил он мне. — Нынешний Китай ужасен. Кошмар Конфуция воплотился: торгаши у власти и нет больше уважения к мудрецам и священнослужителям. Но Китай — это великая цивилизация. От нее можно многое взять, а потом привить где-нибудь. Я живу в том Китае, от которого взял все, что мог: искусство заваривания чая, цигун, медицину, травы, даосизм и даже жену. В сущности, вечно так было: этот Китай всегда был Китаем избранных, в то время как крестьяне работали, кормили всех и взамен получили жизнь с обилием праздников, храмов и легенд.
Этот виртуальный Китай был единственным убежищем Дэна, и сейчас он готовился увезти его с собой в Австралию, как улитка тащит за собой свою раковину, чтобы, в случае чего, было где укрыться.
Для меня такой выход не годился. Я тоже искал убежища, но чувствовал, что оно не в книгах, не в какой-нибудь стране или другой эпохе. Таким убежищем должно было стать что-то внутри меня; что-то не восточное и не западное, а общечеловеческое.
Три месяца, которые вначале представлялись мне вечностью, шли к концу. На самом деле они пролетели быстро. И скоро мне предстояло явиться в Нью-Йорк на «процедуры», как мои «ремонтники» называли серию обследований, необходимых для того, чтобы оценить результат их работ. Для них речь шла о том, чтобы продлить мне визу на пребывание в мире «нормальных», а для меня — получить билетик на следующий круг на карусели.
При этих обследованиях я получал какой-то странный наркоз, после которого не мог вспомнить, что со мной было на протяжении, как минимум, последних двенадцати часов. Поэтому было нужно, чтобы кто-то меня сопровождал. Ясное дело, этим «кем-то» была Анджела.
Мы встретились в Бангкоке и решили вернуться в Америку через Тихий океан. Анджела рассчитывала навестить кузину, которая жила на острове у западного побережья Соединенных Штатов, а я до появления в Нью-Йорке смог бы принять участие в семинаре для больных раком в Калифорнии. Вот таким образом мы и оказались в самолете. Это был один из этих скучнейших трансокеанских перелетов, которые кажутся бесконечными. Загнанные в тесное пространство, мы ощущали себя курами на птицефабрике, кормили нас пищей, закатанной в пластик и разогретой в микроволновке.
Остров Лумми не особенно красив, но группе молодых защитников природы удалось спасти здешние просторные леса со столетними кедрами, не допустив, чтобы землю поделили на участки, и сохранив нетронутыми местные суровые пейзажи. Но с человеческим «ландшафтом» дело обстояло куда печальнее, и тут от Америки я снова содрогнулся.
Коренных обитателей острова, индейцев, больше не осталось, а пришедшие на их место тоже почти все разъехались, и сейчас население представляло собой удручающий набор новых иммигрантов. Тут были одинокие мужчины и женщины второй, третьей и четвертой молодости; пары, решившие в который раз попытать счастья; гомосексуалисты; старые калифорнийские миллиардерши, живущие здесь с рыбаками, годившимися им в сыновья, а то и во внуки; бородатые экологи из Лос-Анджелеса, ставшие лесничими, и многочисленные «люди искусства». Каждый из них приехал на остров со своим домиком на колесах. В этих фургончиках они привезли сюда остатки какой-то прежней жизни и в них же были готовы в любой момент снова двинуться в путь.
Эти фургончики стали для меня символом Америки, в которой никто не живет там, где родился, и не умирает там, где жил. Где каждый независим и не раскрывается перед такими же независимыми, хотя все изображают иллюзию доверительности. Постоянное метание американцев с места на место, их ощущение, что их ничего не держит и они могут непрерывно скитаться по своей бескрайней стране, действительно создает иллюзию свободы, которая легла в основу американского мифа. Но это же делает их несчастными.
Частенько возле дома я видел два фургончика: один для него, другой для нее. «Выходит, что каждый, — говорил я себе, — может хоть сейчас сняться с места и уехать. Разонравился муж, надоела жена, опостылел любовник? Стало слишком тесно? Зашвырнем в фургон то, что осталось после очередного краха, пару тряпок, коробку со всякой утварью — и вперед, на другое место, на другой остров, в другой город, где можно будет начать все сначала: работать, заниматься любовью, делать вид, что есть друзья».
«Фургонное общество» не дает никаких гарантий, кроме одной: гарантированной возможности вовремя сбежать. До чего же это было непохоже на мир моего детства! Тогда у каждого, несмотря на бедность, была семья, было свое ремесло, были друзья, на которых можно было положиться. Флорентийские мастеровые гордились своими корнями; сознание, что несколько поколений твоих предков работало в этой же мастерской, придавало уверенности. Все это переменилось уже на моей памяти, и сегодня слова «мобильность» и «гибкость» используются, чтобы закамуфлировать новую экономическую ситуацию, когда все меньше молодых людей имеют постоянную работу или возможность выбрать для себя занятие, к которому они чувствуют призвание.
Неуверенность и нестабильность пытаются выдать за некую форму свободы, ложной свободы. Мы еще не дошли до логики фургонов, но дело к этому идет, потому что и у нас неуверенность наступает на всех фронтах и отношения между людьми — от деловых до личных — становятся все нестабильнее, теряют прочность. А решение? Многие ждут, что оно с неба на них упадет.
Каждый день мы с Анджелой долго гуляли, иногда часами. Как-то на рассвете, на одной из пустынных дорог, которые, извиваясь, как лента, тянутся к линии горизонта, нас обогнал фургончик. Метров через десять он притормозил у обочины. Из него вышли мужчина и женщина и направились нам навстречу. Женщина обратилась ко мне:
— Ты ведь духовная личность, не так ли?
— Разве мы не становимся в какой-то мере духовными с определенного возраста? — ответил я.
— Ну нет, приятель! Я могу назвать кучу здешних людей, которых духовными никак не назовешь, — сказала она.
Мой индийский облик, «курта-пиджама» и кашмирская шаль на плечах, навел их на мысль, что они встретили «учителя», которого ожидали на острове Лумми. Пришлось их разочаровать.
Через несколько дней мы переехали с острова в Сиэтл, «столицу» компании «Майкрософт». Несмотря на морской пейзаж и яхты богачей в порту, первой мыслью было: «Ну вот и еще одно безнадежное место». На улице на каждом углу кто-то грелся на солнце и просил подаяния. Многие были совсем молоды — грязные, заросшие; на некоторых лицах была написана безнадежность, на других — маниакальная одержимость. Мне они представлялись отбракованной продукцией с конвейера Билла Гейтса. Это явно были неудачники, которым не удалось создать какую-нибудь очередную компьютерную программу.
Ночью я не спал — прислушивался к голосам тех, кому жильем служила картонная тара между двумя магазинами. Вокруг не ощущалось никакого покоя, никакой общности, солидарности. Вечно эта американская атмосфера — конфликтная, агрессивная. Наутро я пошел купить почтовые марки — нужно было отправить письмо. На почте было полно народу, но люди не общались. И вдруг это тягостное молчание было прервано. Какой-то бородач подошел к окошку и о чем-то попросил служащую; она ответила отказом.
Мужчина разъярился и захотел узнать ее имя. Та вызвала заведующую, и они вместе попытались утихомирить скандалиста. Но тот не унимался.
— Я агент ФБР, — сказал он, взял со стойки лист бумаги и записал имена обеих. — Это прямиком отправится в Белый дом, — рявкнул он.