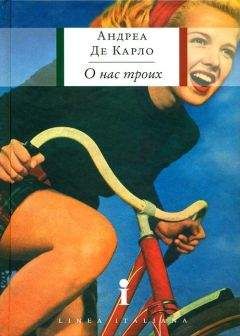Марко пожал руку хозяйке дома, познакомил меня с ней и двинулся дальше со мной на буксире; он выудил два бокала вина с первого же попавшегося под руку подноса, один дал мне, а второй выпил в два глотка и тут же вернулся за другим. Его тут многие знали: махали ему, улыбались, хватали за рукав. Какая-то высокая девушка бросилась его целовать, прижалась к нему всем телом и стала расспрашивать, как он поживает; высокий грузный парень, постриженный под ёжик, прокричал с другого конца комнаты: «A-а, так ты жив-живешенек!» Все они познакомились с ним в те годы, когда мы не общались, и все явно были от него без ума, судя по цепной реакции улыбок, по тому, как они поворачивались, ловя его взгляд, и расступались, стоило ему оказаться поблизости.
Марко отвечал на все эти приветствия, привычные любезности и вопросы, и все же мне казалось, что не так-то ему просто жить здесь и сейчас, испытывать чувства, ловить кайф, брать от жизни то, что она дает, как сформулировал он перед тем, как мы вошли. Я плыл за ним в потоке взглядов и жестов, оглушенный музыкой и голосами, утомленный, увлеченный, оробевший от многообразия людей и от того, что их запасы энергии неистощимы: они все время двигались, говорили, у них бесконечно менялось выражение лица. Все это время я осознавал, что Марко делает над собой усилие, и все время ждал, когда же он повернется и скажет: «Пошли отсюда?»
Но Марко так не сказал, а продолжал пить все, что только ни попадалось под руку, и постепенно заново обрел быстроту и легкость: так наконец-то отрывается от земли перегруженный самолет, долго бежавший по взлетной полосе. Два глотка — и бокал пуст; он пожимал руки, обнимался, бросал какие-то замечания, знакомил со мной всех подряд, алкоголь и адреналин в крови помогли ему вновь обрести блеск, цинизм, остроумие, вряд ли кто-то из присутствующих мог представить себе, что он две недели просидел на полу своей комнаты, парализованный отчаянием.
Мы постоянно переглядывались, и я поражался, как он запросто общается, чего я раньше за ним не замечал. Я-то помнил, что раньше у него вызывало неприязнь любое скопление людей, будь то в переполненном баре, на церемонии открытия какой-нибудь художественной галереи или даже на первом показе его первого фильма: толпа сразу вызывала у него желание сбежать и прихватить меня с собой. Теперь же общение с людьми вроде бы давалось ему легко, вот только двигался и говорил он чересчур быстро, часто перескакивая с одной темы на другую, вертел головой, старался перехватить взгляд собеседника и побыстрее пробраться сквозь толпу. Марко делал упор на женщин: он сразу шел к ним — и у них расцветала на губах улыбка, расширялись зрачки от возбуждения, и они поводили плечами, отступали на шаг, покачивались, изгибались, льнули к нему. Не одни только красотки его привлекали: я видел, как в очередной забитой людьми комнате он, подметив хоть в ком-то черточки своеобразия, тут же устремлялся вперед. Подходил к девушке, начинал что-то с жаром рассказывать, прихватывал ее за локоть, клал руку на бедро, наконец, обхватывал за плечи, жался виском к виску, шептал что-то на ушко, смеялся. И продолжал пить: хватал бокалы и проглатывал вино, не раздумывая, и чем больше пил, тем больше входил во вкус.
Я следовал за ним, как тень, а он время от времени поворачивался и подзывал меня к себе.
— Это мой необыкновенный друг Ливио, один из лучших итальянских художников нового поколения! — говорил он и, смеясь, толкал меня в объятья какой-нибудь девушки, которая шла за нами.
— Перестань, Марко, — говорил я ему, пытаясь хоть как-то сохранять спокойствие.
Но у него уже отказали тормоза.
— Нет, серьезно. Просто он стал такой застенчивый, — не унимался Марко, опять хватая меня за рукав. — А ведь раньше, когда мы познакомились, Ливио был самый общительный человек на свете, только через него я тогда и общался с людьми! А теперь все наоборот, вот странно! Не знаю, как это получилось, но мы поменялись ролями.
И толкал меня вперед, будто назойливый одноклассник, лишенный чувства меры:
— А человек он удивительно тонкий, и потрясающий любовник, серьезно.
Я отбивался еще яростнее: «Да перестань же ты». А он уже не смотрел на меня, уже двигался в другую сторону Я извинялся, как мог, стараясь не втянуться в разговор, тоже пил, но как-то это на меня не особенно действовало, а в итоге все равно шел за Марко. Мне было не впервой испытывать к нему смешанные чувства: хотелось потягаться с ним — и дистанцироваться от него, пусть ведет себя как хочет, только без моего участия: ни в качестве дублера, ни в качестве зрителя.
И как раз когда я готов был сорваться, мне вдруг начинало казаться, что он себя не контролирует и весь натянут, как струна великолепной, но хрупкой гитары, — струна, которая вот-вот порвется. И это объединяло его с Мизией, думал я, и снова шел за ним в надежде защитить, и понимал, что толку от этого мало, но и поделать с этим ничего не мог — наверное, и впрямь все дело в том, какую роль ты на себя берешь, как говорил он.
В какой-то момент, все такой же взвинченный и стремительный, он внезапно схватил меня за локоть, прямо посреди лестницы — мы поднимались на другой этаж, в потоке лиц, взглядов, жестов, музыки, перекрещивающихся, наслаивающихся ритмов.
— Ты хоть понимаешь, Ливио, насколько этого глупо — страдать и убиваться по кому бы то ни было? Что, неужели на одном человеке свет клином сошелся?
Он настойчиво сжимал мой локоть и пристально смотрел мне в глаза, а я послушно кивал головой, но то, что он выпалил мне все это ни с того ни с сего, наводило на мысль, что он хочет сказал нечто прямо противоположное.
— А если все именно так? Может, тебе действительно есть из-за чего страдать и убиваться? — спросил я.
— Нет и нет, — яростно выпалил Марко и стал озираться, ища зацепку, и поддержку, и подтверждение своим словам. — Ты хоть понимаешь, что мы сами создаем себе проблемы? Что в Париже ты месяцами выполнял роль медсестры и няни, а толку от этого никакого? А жизнь уходит, утекает сквозь пальцы! Даже если все время об этом помнить, все равно тебе не понять, насколько же она коротка!
— Ты это к чему? — прокричал я ему сквозь музыку и голоса, бившие прямо по барабанной перепонке.
— А к тому, — ответил Марко, бросив на меня взгляд камикадзе, убившего в себе все чувства. — Главное, поменьше думать, помнить, мечтать и ждать. Радоваться тому, что есть. Нужно жить мгновеньем, Ливио.
— Мгновенье — ничто, — сказал я. — Без всего остального оно пустышка. Мои картины и то не такие абстрактные, как это твое мгновение.
— Мгновенье — все, Ливио, — сказал он. — Все, чем мы владеем.
Я бы не удивился, если бы он тут же рванул к окну и бросился вниз или предложил руку и сердце первой попавшейся женщине.
Он направился к высокой девушке с очень короткими светлыми волосами и колечком в носу.
— Ты знаешь, что ты самая потрясающая девушка во всем Лондоне? — сказал он ей.
Она вздрогнула от удивления и восторга — а через минуту Марко уже обнимал ее, как человек, окончательно потерявший надежду, и целовал, будто все это время жил в ожидании встречи с ней.
Мне расхотелось заботиться о нем, я пошел бродить между людей, продолжая пить все подряд: вино, пиво, джин или водку, уже не разбирая, что пью, не чувствуя вкуса. Надо же было как-то компенсировать себе месяцы тревоги, ожидания, советов, самоотречения, бесплодных порывов помочь другим. Я пил и разглядывал людей, то прислонившись к стене, то стоя у окна, сидя на подоконнике, на диване, на краю стула, или опять стоя с чувством, что пол под ногами продавливается и шатается с каждой минутой все сильнее и сильнее. Мне не было плохо; я словно смотрел на все новым взглядом, все чувства сгладились и приглушились под воздействием алкоголя и бесконечных сомнений.
Потом я оказался возле миниатюрной девушки восточного типа, и мы с ней вовсю болтали, хотя я и не понял, как завязался разговор, не все понимал из того, что она говорила, но сам я изъяснялся без каких-либо трудностей, потому что отдался волне общения, которая несла вперед всех этих горланивших, жестикулирующих людей вокруг.
Я весь был здесь-и-сейчас, захваченный жаркой, самопроизвольной игрой выражений лица и интонаций, но то и дело мне вспоминалась Мизия в Париже с ее наркотиками и вспоминался маленький Ливио, рисующий на стене в гостиной зверей нашего сказочного зоопарка. Мне вспоминались то отдельные взгляды и жесты; то цвет какой-нибудь юбки или платка; то вдруг карандаш; то записка, нацарапанная в спешке на кривом кухонном столике.
Я пытался вернуться к разговору: на несколько минут — получалось, но потом меня вновь, рывками, уносило прочь: вновь я мучился, что, может, надо было выкинуть порошки Мизии, запереть ее дома и попытаться вылечить, а не потакать ей во всем, проявляя запредельное понимание. Я вновь решал для себя, где проходят границы дружбы, есть ли они вообще, и могу ли я считать себя настоящим другом и, в конце концов, не бывает ли так, что друг ближе, чем любовник, а его влияние и преданность важнее и существеннее? Я стоял сантиметрах в двадцати от миниатюрной девушки по имени Луиза, которая подробно рассказывала мне о техниках трафаретной печати, и нас разделяли сотни километров: я даже не слышал, что она говорит.