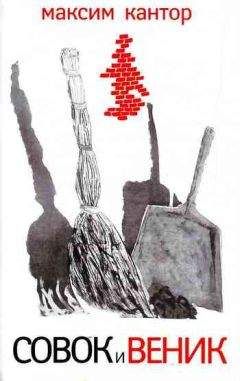Офорт – это линия, проведенная тонкой острой иглой по медной доске, покрытой черным лаком; данная техника просто не допускает развращающей расплывчатости сепии, небрежности литографского карандаша (правда, Оноре Домье умудрялся огрызком тупого карандаша – рисовал только огрызками – проводить совершенные линии, но то был Домье).
Офорту лучше всего учиться у Рембрандта – желающие могут с пользой для себя сравнивать стадии рембрандтовских офортов. Весьма важно именно то, что мастер счел нужным добавить к уже нарисованному и что он убрал в тень. Собственно, Рембрандт проделывал со своими изображениями то же самое, что и Пикассо: сохранял лишь предельно значимое, остальное погружал во мрак; только проделывал он все это в пределах одной доски, а не шел от изображения к изображению, как испанец. Из живых мастеров офорта назову Люсьена Фройда – великого английского художника, внука Зигмунда. Он сейчас глубокий старик, но рука по-прежнему тверда, Фройд делает большие офорты, рисует крупные лица, исследует черты человека так, как геолог исследует разрез земной коры. Часто он проводит линию несколько раз по одному и тому же месту – но не оттого, что в первый раз ошибся: он лишь уточняет форму, исследует мельчайший ее поворот, он настаивает на сказанном. Так оратор возвращается к важной мысли, повторяет ее снова, чтобы услышали и запомнили. Это несколько физиологическое, оттого подчас пугающее рисование – линия столь внимательна, что не щадит ничего, никакой фотографии не под силу такая беспристрастность. Фотография, как ни странно, весьма условное искусство – она зависит от света, от объектива, от расстояния, от погоды. Нет еще такой фотографии, которая исследовала бы объект столь внимательно, как Леонардо исследовал мышцы и сухожилия. Когда говорят, что фотография заменила точный рисунок, ошибаются: фотография маскирует, а не выявляет сущность. Фотография – иллюзия, фотография – идеология, рисунок – анализ. Рисование всегда было и остается по природе своей – анализом конструкции; ничего взамен этого человечество так и не придумало.
Тот, кто именует себя русским художником, сталкивается с болезненной проблемой – не на что опереться в прошлом. В России были прекрасные, удивительные художники – но странным образом они не особенно известны, их оттеснили модные авангардисты и салонные мастера. Лучший художник России, Петров-Водкин, совсем не известен в Европе, да и у себя на родине известен не очень. Великие русские мастера живописи (Рублев, Суриков, Петров-Водкин, Филонов) никакой внятной традиции не образуют – в отличие, например, от русской литературной традиции. А если и есть художественные школы (московский сезанизм, петербургская академичность, салон Серебряного века, авангард – выродившийся в сервильную декоративность), то это школы не великие, их питомцы ничего потрясшего мир не создали.
В России вообще пропорции в культуре немного нарушены. Опыт литературный не равен опыту философскому, опыт религиозный не влияет на опыт пластический, единого целого они не образуют. Иногда говорят: Россия – литературоцентрична. Так говорят, чтобы не сказать обидную для русского уха вещь: в России практически не было великой живописи, было крайне мало больших художников, которые ставили перед собой задачи, равновеликие задачам писателей. Россия себя слышит, но не умеет себя разглядеть. Модные художники – были в избытке, значительных, отвечающих за время, – почти что и не было.
Когда говорят, что Россия не знала Возрождения, имеют в виду отсутствие гуманистической культуры, такого комплекса знаний и умений, которые формируют культуру как цельный организм, способный воплотиться единомоментно в одной личности – наподобие того, как вся культура целиком воспроизводится в теле средневекового собора. Это крайне существенное обстоятельство – способность культуры концентрироваться в едином теле, так сказать, соответствие атома и вселенной. Всякая культура (разумеется, Россия в том числе) внутри самой себя создает адекватные ей проявления пластики и слова – но далеко не всякая культура способна сжиматься до микрокосма, способна воспроизводить себя в каждом фрагменте. Далеко не всякая культура производит свободную фигуру, соединяющую в себе философа и поэта, художника и литератора. Значение Микеланджело, объединяющего литературу, живопись, архитектуру, скульптуру и философию, не только в том, что он велик в любой дисциплине – но в том, что по нему возможно реконструировать историю в целом, он воплощает ее генетический код. Именно потому русская культура так дорожит именем Пушкина, что он – как нам сегодня хочется думать – воплощал некий генетический код русской культуры. Однако надо признать, что художника, равного Пушкину, Россия не знала.
В русской художественной практике (в отличие от западноевропейской) не сложилось единого сгустка смыслов, эйдоса, который равно порождал бы и литературу, и живопись, и социальную мысль. У нас не было художника, равного Толстому и Пушкину, не было живописца в шестидесятые годы, который повторил бы подвиг Солженицына. У испанцев рядом с Сервантесом стоит Веласкес, у французов рядом с Рабле – великий живописец Фуке, у итальянцев есть Микеланджело, но и Данте, у англичан рядом с Шекспиром – Гольбейн. И важно здесь то, что общими усилиями они делают одно дело, строят один собор. Но назовите русского художника равного – пусть не Толстому и Достоевскому – назовите мастера, современного и равного Чехову, такого просто нет. Иллюстрировавший Толстого художник Леонид Пастернак – неплох, но ничем особенно и не хорош. А вот Данте иллюстрировал Сандро Боттичелли. Известны дневники Достоевского, описывающего современные ему салоны живописи, – сегодня мы не вспомним ни одного из имен, кои казались ему значительными, а ведь он искал себе спутника среди живописцев. Мы можем представить, что персонажи Веласкеса и Эль Греко путешествовали по Кастилии вместе с Дон Кихотом – но разве кто-то сумел изобразить Пьера Безухова или Наташу Ростову? Наше изобразительное искусство все еще находится в пред-пушкинской поре, мы еще ждем, когда пластика осмелеет настолько, чтобы сравняться с литературой своим значением. Единого тела культуры нет, нет общего языка смыслов, внятного одновременно и философии, и пластике – то есть нет того, что дал западноевропейской культуре Ренессанс. Географическая и историческая централизация страны лишь усугубляют это свойство. И это большая проблема для русского искусства.
Повторюсь: способность культуры сжиматься до размеров единой судьбы, являть себя сразу всю, целиком, в одной личности – и есть характеристика гуманистической культуры. Поразительным образом в России роль того, кто представляет генетический код культуры в целом – отводилась социальному вождю, но никак не философу, не художнику. Культура готова была примириться с тем, что ее воплощает Сталин или Путин – а у Петрова-Водкина не было на это никаких полномочий. Можно возразить, сказать, что и Британию двадцатого века воплощает Черчилль, политик, но Черчилль одновременно – незаурядный писатель и художник, он потому и делегирован защищать культуру, что он ее воплощает – хорошую, плохую, лицемерную или отважную, но Черчилль выражает культуру Британии по праву.
Требуется сделать так, чтобы не полковник, не городничий, но философ и гуманист представлял культуру страны. И так произойдет лишь в одном случае, – если разрозненные, корпоративные, цеховые соображения объединятся не формулой рынка (успешен в торговле или нет), но внятной обществу эстетикой.
Для цельного тела культуры несказанно важны рисующие писатели, сочиняющие художники – и такие случаи в мире нередки. Великий Ван Гог не менее ценен как автор эстетической программы, Гюнтер Грасс – превосходный художник, не уступающий своему учителю Хартунгу, Гюго и Гофман иллюстрировали свои книги. Великолепный художник Вильям Блейк (мы его знаем как поэта) и прекрасный поэт Пикассо (известный прежде всего как художник) совмещают профессии именно потому, что для строительства целого требуется синтез. Время требовало появления людей, воплощающих всю культуру разом. Что касается Леонардо, Микеланджело и прочих деятелей итальянского Ренессанса, здесь все очевидно. Невероятно важны «Трактаты» Дюрера, «Анализ красоты» Хогарта и «Дневники» Делакруа – важны прежде всего потому, что являют нам в одной фигуре эстетическую программу времени.
В России такое бывало: философ Владимир Соловьев был поэтом, Грибоедов – музыкантом, Маяковский, я думаю, является одним из самых больших русских художников (имею в виду его Окна РОСТа). Эти случаи обязаны превратиться из исключительных – в повседневные, сделаться нормой. Именно такое единение ремесла поэта и труда рабочего – представлял Маяковский, когда говорил об идеале будущего государства. Западноевропейской культуре этот синтез необходим еще и для самосохранения – в известном смысле это вопрос выживания: всякий раз редуцированная до фрагмента, разрушенная до основания культура воспроизводит себя по одной лишь своей клетке.