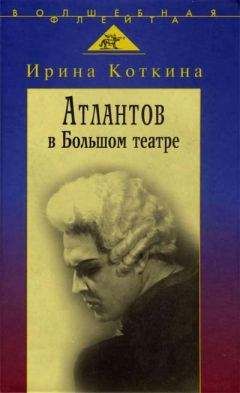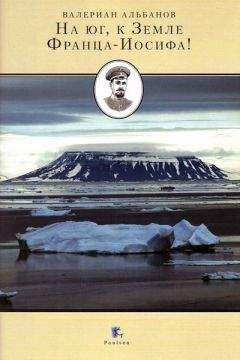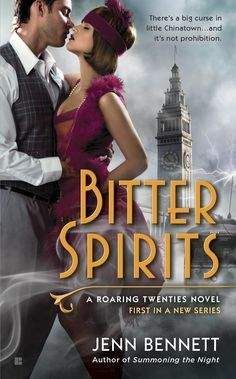— Иди сюда, стерва, не прячься за попом! — потребовал Олег.
Отец Михаил встал, закрывая собой Людмилу. Завизжали одновременно Марианна и Нинка.
За спиной Олега и двоих в хаки раздался вдруг голос — Эдуард спокойно и зычно, как маститый поэт перед микрофоном, отчеканил:
— Олег Кречет, вы арестованы. Бросайте оружие. Все трое.
Свет погас. Сразу за этим на тысячную долю секунды запоздав, разразился взрыв — возможно, в подвале, возможно рядом с гостиницей — в любом случае, пол и стены дрогнули, посыпалась со столиков, стойки, и полки за стойкой стеклотара. Эдуард, боясь в темноте попасть в кого-нибудь помимо Кречета и потом об этом пожалеть, рванулся вперед. Справа закричали, он схватил кого-то, кто-то сзади больно ударил его в позвоночник. Снова завизжали женщины. Раздался выстрел, вспышка осветила помещение, но в чудовищном хаосе мечущихся тел нечего нельзя было понять. Затем от проема дали автоматную очередь — очевидно, поверх голов, и сразу включился снова свет. То ли генератор в подвале оправился от шока, то ли взорвалось не в подвале — бар осветился.
Неудавшаяся барыня Аделина стояла в проеме с автоматом наизготовку.
Стенька, сообразив, что держит мертвой хваткой вовсе не Кречета, и даже не одного из людей в хаки, а пытающегося придти в сознание Пушкина, сполз с него и встал на ноги, озираясь. Эдуард взглядом оценил обстановку, кинулся к двери в банкетный зал, распахнул ее. Пусто. Нет, они ушли — мимо Линки — в вестибюль. Линка стоит в проеме с гаубицей в руках, ничего не заметила — и то благо. Не хватало только, чтобы Кречет ее пришил. Партизанка хуева.
* * *
В коридоре, ведущем в подсобное помещение, неожиданно включились сразу две лампы дневного света, и Милну пришлось, чуть отклонясь, взять крадущегося и ничего не подозревавшего рядового Щедрина за шиворот и, ворочая у него перед носом пистолетом, сказать:
— Шшш!
Рядовой Щедрин опустил автомат.
— Ты с кем? — глупо и тихо спросил Милн, тут же обругав себя за идиотский вопрос.
На поверку вопрос оказался вовсе не идиотским.
— Предатели, сволочи, — тихо ответил Щедрин.
— Понятно. Парень, не дергайся. Где Демичев?
— Так я тебе и сказал.
— Кретин! Нужно его спасти.
— Поверю я тебе, как же.
— Поверишь. Нам здесь без Демичева не жить — никому, понял? А его сейчас пристрелят.
— Предатели.
— Дурак.
В пятнадцати метрах от них распахнулась дверь. Выбежавшие в коридор возможно не ожидали, что будет светло. На обоих были облегающие водолазные костюмы синего цвета, выделялись только глаза и носы. Один из выбежавших среагировал — поднял пистолет. Милн поднял свой пистолет одновременно с выбежавшим. Но ни Милн, заподозривший, в чем дело, ни выбежавший, увидевший негра — не выстрелили. Немая сцена продлилась бы еще несколько секунд, но Щедрин, не оценивший драматизма, нажал на спуск. Затрещала очередь, и выбежавший с пистолетом, все внимание которого направлено было на Милна, упал на спину. Милн выбил из рук Щедрина автомат, впечатал Щедрина в стену, и кинулся к водолазам.
Демичев, стянув с головы облегающую синтетику, присел на корточки рядом с поверженным спутником. Милн присел рядом, взялся, потянул молнию облегающего пластика вниз, потрогал поверженному горло, судорожно вздохнул, и закрыл рукой страшно широко распахнутые серые глаза. И сел рядом. Из-под облегающего голову материала выбилась блондинистая прядь.
— Я даже не знаю, кто она такая… была, на самом деле… представляешь, Милн, — потухшим, без интонации, голосом сказал Демичев. — Какое-то тайное общество…
— Не надо, Трувор, — Милн сел на пол рядом с трупом. — Не время сейчас ебать мозги.
— Нет, правда…
— Да, масоны, иллюминаты… заговор учителей начальной школы… молчите, Трувор. По-хорошему.
— Что со Щедриным?…
— Не знаю.
— Лежит.
— Пойдите, окажите помощь.
Демичев поднялся и неуверенно, оглядываясь, пошел к лежащему возле стены Щедрину. Милн сунул руки под труп и рывком поднялся на ноги. Шагнул в подсобное помещение.
Два открытых чемодана на столе. Никто даже не обеспокоился их спрятать или уничтожить. Какие-то документы, какие-то приспособления. Какой-то совершенно неагентурный стиль — оставлять после себя… впрочем, понятно — здесь никто никого искать не будет, все, находящиеся в гостинице, заведомо приговорены. Милн пристроил Валентину на стол, скинул чемоданы на пол, и некоторое время стоял рядом, ни о чем не думая.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. НОВЫЙ ЧЛЕН СТАРОГО ОБЩЕСТВА
За три недели до новгородского переворота произошло эпохальное событие, о котором никто не знал. Президент Российской Федерации изменил своей жене. Сама по себе измена не была эпохальной — он и раньше изменял, да и вообще изменять жене — законное право любого президента любой страны. Американцы попробовали разок своего президента лишить этого права, и обожглись. Экспериментаторы. Нет, дело было не в самой измене.
А случилось так, что сделался международный прием в Москве, и присутствовали дипломаты с женами, и жена одного из дипломатов оказалась итальянкой двадцати восьми лет, смешливой и ужасно симпатичной. Вечернее платье на ней, белокожей брюнетке, смотрелось очень хорошо, но не строго, а призывно. Президент обменялся с итальянкой несколькими фразами по-английски, сказал, что не любит оперу. В ответ итальянка призналась, стреляя глазами, что сама она оперу терпеть не может с детства. Это их сблизило. Затем они встретились еще раз в эркере и даже выпили шампанского вместе, и при этом итальянка качала тяжелыми волосами и улыбалась искренне. Президент, подтянутый и спортивный несмотря на свои шестьдесят, почувствовал прилив молодых сил, и ему понравилось. И, пока дипломаты развлекались светскими разговорами, неожиданно для себя уединился с итальянкой в одной из гостиных, повернув ключ в массивной двери на два оборота. Сперва они целовались в полутьме, а потом итальянка взяла инициативу и стала стаскивать одежду с себя и с него. После нескольких минут неуверенности Президент перестал бояться провала и перехватил инициативу. Наверное, они очень друг другу подходили. Провели они вместе около часа, а на следующий день Президент тайно приехал к ней в номер гостиницы. Муж отсутствовал — на каком-то важном мероприятии. Последовали пять часов страсти подряд. На следующий день итальянка уехала.
Он не влюбился в нее — вовсе нет. Но он стал по-другому смотреть и на себя, и на окружение. И на жену. Он стал другой. Непонятная, щемящая тоска по иной жизни, по Италии, где он и был-то раза два всего, дипломатически — то есть, из гостиницы на бал и обратно — тоска по людям с другими какими-то, жизнерадостными понятиями, переполнила его и породила в нем неимоверный прилив энергии. Президент сходу сбросил лет двадцать. Итальянцы, и особенно итальянки, думалось ему — расслабленные, не насупленные. Это потому, что они не считают все подряд подвигом и долгом. А мы все считаем долгом. Родился — уже перед Родиной в вечном долгу. Сплошные должники. Казалось бы — когда успели задолжать? И на подвиги очень горазды. Столько подвигов каждый совершает ежедень, что зубы почистить некогда. Итальянцы не совершают подвигов. Итальянцы поют себе баркаролы.
Да, он стал другой.
Вот и сейчас, в два часа ночи, он смотрел на жену, спящую рядом в бесформенной ядовито-зеленого цвета шелковой пижаме — по-другому. Питерскую гостиницу хорошо отапливают, в спальне тепло — спрашивается, зачем пижама? Ах, ей под шестьдесят, и она стесняется. Чего стесняется? Мужа? Корова крашеная. Располнела, а когда ей об этом говоришь, она отмахивается и смеется фригидно. Итальянка, конечно же, блядища, но, ежели подумать хорошенько — неизвестно еще, что больше блядство — распущенность итальянки или такое вот матронино лежание, к мужу повернулась обтянутой пижамой толстой жопой, храпит, губы распустила. Одно дело — раздевать женщину, с которой только что познакомился. Другое дело — возиться с пижамой жены — тесемки, шнурки — которая тут же проснется и удивленно скажет — ты чего? Еб твою мать — я твой муж, мы в одной постели, ночь на дворе, я стаскиваю с тебя пижаму — чего я? Корова тупая. Не больно то и хотелось.
Впрочем — действительно, чего я, если подумать. У нас с ней отношения, то бишь секс, бывают только по большим случаям. Двадцать лет уже при мне и ногти на ногах стрижет, и волосы бреет под мышками. Чего я? Итальянка растревожила, разбудила мужчину. Вернула, можно сказать, к жене в постель! Другая бы радовалась, а эта даже не понимает ничего. Впрочем, ладно. На лице женщины покорная ироничная тупость — ах, уж я стара, мой друг, и ты уж стар, чего уж нам-то теперь-то — как уж было сказано, не больно хотелось. Старым людям нравится, когда их ровесники тоже старые. Старики проявляют беспокойство, грозящее перейти в неприязнь и даже в ненависть, когда кто-то из их окружения выглядит, или ведет себя, моложе. Как говорят американцы, misery loves company.