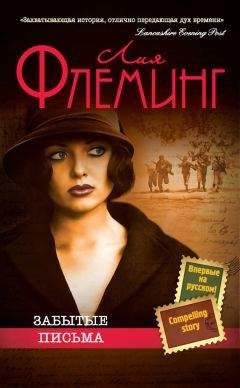Как же ей описать матери все чудеса этого удивительного путешествия? Она отправила открытки из Нью-Йорка и Чикаго, а теперь сочиняла письмо с рассказом о семье Грюнвальдов, которая встретит их в Лос-Анджелесе.
Лайза вела дневник, в специальном альбоме для зарисовок делала наброски горных вершин, ущелий и равнин за окном, возбужденно тарахтела, завидев водоем или устье реки. Сельму же просто распирало от гордости, что ей довелось пережить такое!
Чем больше она наблюдала за этой страной, тем больше удивлялась ее дикой свободе и простору, поражалась величию Скалистых гор. За каждым поворотом открывался новый вид, реки были шириной с море. Попутчики ничуть не меньше наслаждались поездкой, особенно один молодой шотландец, любезно развлекавший их вечерами.
Звали его Джеймс Барр, было ему двадцать шесть лет, и ехал он в Лос-Анджелес, надеясь найти работу в кинобизнесе. Прежде он играл в театре в Глазго, а потом воевал. Разговаривал он с очень забавным акцентом, у него были медно-рыжие волосы и каштановые глаза.
Лайза называла его их ангелом-хранителем. Он довольно посредственно играл в карты, зато пел грустные народные песни, наигрывая мелодию на маленькой смешной дудочке. Он явно искал их общества, а когда узнал, что Лайза приходится племянницей Корнелиусу Грюнвальду, стал смотреть на них с особым почтением.
Сельма чувствовала, он выделяет их среди прочих, и ее особенно, расспрашивал ее о жизни в Брэдфорде, о том, как вышло, что они оказались вдвоем в этом замечательном путешествии.
Он прожил какое-то время в Нью-Йорке, пытался устроиться в театр, но потом решил перебраться на запад. Каждый вечер Сельма ловила себя на том, что ей хочется увидеть его красивое лицо – и тщательно проверяла, что ее платье нигде не помялось, чулки не перекручены, а волосы уложены изящной волной.
– Гляди, он тобой увлечен! – дразнила ее Лайза. – Будешь с ним целоваться?
– Не болтай ерунды! Мы едва знакомы! – вспыхнула Сельма.
– Ты нравишься ему, он украдкой только на тебя и смотрит.
– Нет, тебе показалось.
– А мне кажется, он такой красивый… И играл в «Гамлете», и еще в той пьесе с шотландским названием.
– Что ж тут удивительного, он же шотландец.
– Плохо называть пьесу «Макбет», не к добру, – прошептала Лайза.
– Прости, я не знаю, о чем ты. Я ведь не ходила в театры, – ответила Сельма, пристыженная. Какое невежество! – Нам это не позволялось.
– Какая ты смешная. Как можно не желать увидеть настоящий спектакль в настоящем театре? Мы с папочкой ходили каждую неделю. – Она замолчала. Больше она никогда не увидит отца.
– Но это же все лишь выдумка, – мягко произнесла Сельма. – Не по-настоящему.
– Но рассказывает о настоящей жизни… Высвечивает ее так, что мы лучше понимаем что-то в нашей собственной жизни. «Подносит зеркало нам к лицу», как говорил мой учитель драмы.
– Какую же ерунду ты болтаешь!
– И вовсе нет! Спроси Джеймса. Я прежде никогда не встречала настоящего актера. Мы обязательно должны будем сходить на его спектакль. Ты поймешь тогда, что это такое.
Неужели в этом странном путешествии через континент ее сердце решилось раскрыться? Возможно ли такое? Когда она смотрела на Джеймса, видела эти темные глаза, сердце начинало биться чаще. Боже, у них же нет ничего общего! Он болтал о людях и местах, о которых она даже не слышала прежде, и она наслаждалась каждым мгновением, что они проводили вместе. Как же давно она не испытывала к себе такого внимания!
Лицо Гая уже не стояло непрерывно перед глазами. Та история в прошлом, все кончено. Ей надо теперь смотреть вперед, не проморгать этот неожиданный поворот.
Наверное, когда они прибудут на место, все станет понятно – действительно ли он от души дарил ей все эти комплименты или же это была просто привычная актерская игра? Время покажет, искренен ли он. А она не станет торопить события, не позволит больше ранить себя.
* * *
Леди Хестер, казалось, заняла собой всю парадную гостиную, опершись на свою палку, будто Британия на трезубец[24].
– Итак, что вы думаете о моем предложении?
Эсси настолько была ошарашена, что едва могла говорить.
– Вы предлагаете мне перебраться жить в Ватерлоо… и помогать вам по хозяйству? Простите, я пока не понимаю. Вы хотите продать мой дом?
– Вовсе нет. Мы не собираемся продавать нашу собственность. Просто механик, который открыл мастерскую по соседству с вами, хочет расширять дело, и ему нужно быть ближе к работе. Боюсь, автомобили приходят на смену лошадям. Я подумала, возможно, вы захотите жить немного подальше от деревни.
– Ах, мне нет дела до их пересудов… Пускай хоть горшком называют. Их оскорбления давно не задевают меня. И я не нуждаюсь в благотворительности. Если вы хотите вышвырнуть меня, я подберу себе что-то другое, справлюсь.
– Не будьте такой колючей. Да, быть может, мы по-разному смотрим на вещи, но я знаю, вы честный работник, а нынче так трудно найти надежный персонал. После войны никто не хочет возвращаться на прежнее место.
Комплимент оказался для Эсси неожиданным, но она все еще сомневалась.
– Что вы, конечно, я благодарна вам за такое предложение, но мне надо все обдумать, написать в Америку нашей Сельме, посоветоваться, – она помолчала, кивнув на стопку писем и открыток на каминной полке. – Дочка теперь на Западном побережье, работает компаньонкой у одной леди… умница, нашла такое хорошее место. Встречается с молодым человеком, он шотландец, – со вздохом добавила она. – Вот ведь, проделать такой путь, чтобы встретить волынщика в клетчатой юбчонке, когда у нас в Карлайле – всего-то пару часов на поезде! – их по паре за пенни. Молодежь, что с нее взять – все по-своему делают. А мастер Энгус все еще за границей?
Хестер кивнула.
– Да, спасибо, с ним все в порядке. Так все-таки давайте вернемся к моему предложению. Вы подумаете? Да, и вы уже много месяцев не ходите на собрания Женского института.
– Вы знаете почему. Мне неловко теперь там.
– Какая ерунда! Когда вы будете работать у меня, я обязательно приглашу вас ходить туда вместе со мной. И соседи перестанут вас сторониться… – Она поднялась из кресла, простеганного пуговицами, черные юбки зашуршали о мебель. – Перемены пойдут вам на пользу.
– Ну, как скажете, – вздохнула Эсси. Отчего эта женщина так поступает? Прежде будто и не замечала их, а теперь вот, подумать только, замолвила словечко за Фрэнка, так горячо настаивает, чтобы его имя тоже непременно выбили на памятнике. Вопрос пока отложили, а на День примирения, решили, пусть церковный колокол в одиннадцать утра пробьет ровно двадцать семь раз – по каждому из погибших, и в своем доме каждый сможет встать и почтить его память.
Странноватой старухой она стала, леди Хестер… Бродит там теперь по пустынному своему дворцу, у нее ведь и осталась-то всего пара постоянных слуг. Миссис Бек снова слегла с ревматизмом, не может каждый день приходить. Может, леди Хестер ждет, что я займу ее место?
Да нет, не то чтоб она боялась черной работы, но постоянно чувствовать, как эта дракониха дышит тебе в спину, раздает указания… Им придется как-то подлаживаться друг к другу. Впрочем, предложение и в самом деле здравое. Она едва сводит концы с концами. Сельма присылает доллары, когда у нее получается что-то отложить, но лишними деньги никак не будут.
В церковь она больше не ходит и теперь постепенно превращается в старую брюзгу. Ничьего позволения на переезд ей спрашивать не надо – как решит сама, так и поступит. Подумаешь, сменит одну кухонную раковину на другую… Вот только как совсем оставить эти стены, это место? Она оглянулась вокруг. А почему, собственно, нет? Память живет в сердце, ее куда угодно можно унести с собой.
Эсси продолжала машинально хлопотать по хозяйству. Да, ее в самом деле тронуло, что леди Хестер выбрала именно ее, пусть она и догадывалась почему.
Леди Хестер знала, что ее сын бросил в беде их сына и что Энгус своей жизнью обязан ее мальчикам. Да и этот роман потом, когда Хестер своим вмешательством разлучила два любящих сердца. А теперь никого из мальчишек с ними не осталось. Да, высокомерная. Да, властная. Но теперь она такая же одинокая старая женщина, как и сама Эсси. И только поэтому она напишет ей сейчас записочку, что согласна на ее предложение. А здесь уж для нее ничего не осталось – одни лишь воспоминания о былом счастье.
* * *
Гай стоял посреди просторной фермерской кухни, сжимая в руках темную шапку, и недоумевал, как же удалось дожить до этой минуты. На нем было простое черное пальто и брюки, от которых попахивало нафталином, туго накрахмаленная рубашка. Бородка аккуратно подстрижена, руки чуть подрагивают от волнения. Ах, как хочется выпить, но кроме воды здесь ничего не предложат. В кармане его лежало смятое письмо.