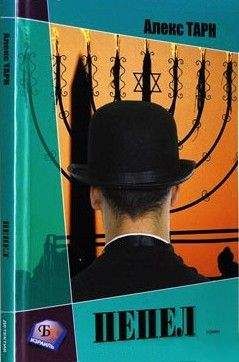А сама, помню, подумала: «Что же девочка-то не плачет?» — И обернулась посмотреть.
Девочки нигде не было. Она исчезла. Сестра Клара одобрительно кивала, Рыжая Фанни полоскала в бочке руки.
— А где ребенок?
— Ребенок? — удивленно переспросила Фанни. — Какой ребенок? Этот, что ли? — И вынула руки из воды. Она держала за ноги маленькое новорожденное тельце, мертвое тельце. Она утопила младенца в бочке, как топят котят. Утопила в бочке, не переставая улыбаться.
— Мертворожденный, — сказала Рыжая Фанни. — Какая жалость… — Она подмигнула и пошла по проходу в «мертвый» конец барака. Она так и несла маленький трупик — за ноги и слегка помахивала им при каждом шаге, а крысы с визгом неслись вслед за нею под нарами.
Я помню, что закрыла лицо руками, лишь бы не видеть. Что я могла сделать, господин судья? У меня не было армии. Я умела только принимать роды. Помешать происходившему там ужасу мог только Он. Но Он отчего-то молчал, по одному Ему известным причинам.
— Ничего, — сказала Клара у меня за спиной. — Привыкнешь.
Потом она повернулась к роженице:
— А ты вставай, слышишь? Умерла твоя девка. Ничего страшного. У всех умирают, а ты, что — особенная? Полежи до утра здесь, а завтра возвращайся в рабочий барак. Давай, давай…
Я не видела, как женщина доковыляла до своего места. Я поняла, что лицо у меня залито слезами, только потому, что Клара тряхнула меня за плечо и сердито сказала:
— Прекрати реветь, Бронислава. Таков порядок. Все младенцы записываются тут в мертворожденные, все до одного. Приказ Кенига.
Я не стала спорить с нею. У меня не было армии. Я сказала:
— Я хочу начать сейчас, немедленно. Вот схожу за помощницей и начну. А вы идите отдыхать.
Я вышла из барака, не дожидаясь ответа. Вышла, чтобы не блевануть прямо на двух бурых крыс, отчего-то называемых руками акушерки Клары. Меня вытошнило уже на улице.
Мы начали с Маришкой в два, а к следующему вечеру, когда отдохнувшая Клара зашла в больничный барак, на «родильных» нарах уже баюкали свои драгоценные свертки девять счастливых мамаш. Ни одной смерти. Бочка стояла пустая — мы выплеснули за дверь всю мертвую воду. Младенцев обмывали в ведре. Клара посмотрела, ухмыльнулась и вышла, так и не сказав ни слова.
Из глубины барака подошла врачиха Нина, обняла нас за плечи:
— Жалко мне вас, девочки. Она ведь, сука, к докторам побежала, доносить. Прощайте, на всякий случай.
Мы с Маришкой попрощались с Ниной и друг с другом. На всякий случай.
Сестра Клара вернулась скоро, минут через десять.
— Иди, — сказала она. — Кениг требует. Я тебя, дуру, предупреждала.
Кениг начал орать, едва я переступила порог его кабинета. Я свободно говорю на идише, а он близок к немецкому. Так что обычно мне не составляло труда объясняться с лагерными эсэсовцами. Но там, перед Кенигом, я очень боялась. Настолько, что не понимала ничего в его крике, кроме нескольких отдельных слов. По-моему, он кричал что-то вроде: «Как ты посмела?..», и «грязная шлюха…», и «приказ есть приказ…» Последнее он повторял особенно часто. Немцы вообще не понимают, как можно ослушаться приказа, и уж тем более, находясь в нашем положении. Ведь «приказ есть приказ!»
Я боялась поднять на него глаза, просто стояла перед ним, дрожа, как осиновый лист и думая только о том, какой будет стыд, если мой мочевой пузырь со страху вдруг откажется слушаться. Удивительно, какие дурацкие мысли приходят человеку в голову в такие моменты… Перед моими глазами мелькали ярко начищенные сапоги Кенига; они расхаживали взад-вперед и скрипели в такт его воплям. От него воняло шнапсом и одеколоном.
Наконец он приостановился, перевел дух и раздельно спросил:
— Поняла, ты, старая шлюха? — и замолчал. Он молчал не потому, что ожидал какого-то ответа. Мой ответ значил для него не больше плевка на полу. Он просто делал паузу, как театральный актер, который хочет, чтобы его ударный монолог пробился поглубже в душу всего зала, или даже всего города, или даже всего мира. А потом он вдохнул, чтобы позвать вахтмана и сказать ему, что именно надлежит сделать со мной.
И тогда я услышала, как мой голос сказал:
— Я никогда не стану топить новорожденных детей. Никогда. — И этот голос звучал на удивление твердо, принимая во внимание общую дрожь и навязчивые мысли о мочевом пузыре. Кениг снова глубоко вдохнул, будто вынырнул. Я продолжала смотреть в пол и ждала. Но он молчал, да и сапоги куда-то исчезли из виду. Тогда я рискнула поднять глаза.
Доктор Кениг стоял у окна спиной ко мне и смотрел во двор. Думаю, что он почувствовал мой взгляд, потому что тут же сказал:
— Пошла вон отсюда. Вон!
Теперь он говорил очень тихо. Я поклонилась и вышла, и пошла назад в больничный барак. Я знала, что доктор Кениг продолжает смотреть на меня из окна, но другой дороги не было, так что пришлось протащить свои заплетающиеся ноги еще и через это.
Господь снова спас и меня, и дочку, уберег, исполнил свою часть договора. Значит, я должна была выполнять свою. И я выполняла, господин судья, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не переводя духа, в течение двух лет. Один только раз прервалась ненадолго, когда свалилась от тифа. Но и тут выжила, справилась. Мы с Маришкой знали, что передать смену сестре Кларе и Рыжей Фанни означает убить несколько детей, пусть не своими руками, но все же… Поэтому мы делали все, чтобы работать и за себя, и за них. Они не возражали. Чем плохо валяться круглые сутки на нарах в блатном бараке, получая полный паек за двенадцатичасовой рабочий день? Правда, время от времени им становилось скучно, и они заявлялись в «родильное отделение» развлечься. Тогда мы с Маришкой уходили, чтобы не видеть. У нас не было армии, господин судья. А драться с Кларой было и глупо, и бесполезно. Честно говоря, и так никто в бараке не понимал, почему Кениг закрывал глаза на наши с Маришкой вопиющие нарушения приказа.
— Дура ты, Бронислава, дура, — говорила Клара, оглядывая нары, где плакали от голода и от холода, сосали пустую грудь, спали в предсмертной слабости полтора десятка младенцев. — Все равно ведь они не жильцы. Зачем же тогда мучиться?..
Фактически она была права. В конце концов, умирали все до единого, за редчайшим исключением. Средняя продолжительность жизни новорожденных составляла примерно две недели. Да и эти две недели были не сахар. Ну как тут не спросить: «зачем?» Но я-то знала, что это неправильный, сатанинский вопрос, который человек не имеет права задавать, а уж пытаться отвечать на него — тем более. Потому что жизнь есть жизнь без всякого «зачем». Не «приказ есть приказ», а «жизнь есть жизнь», вот в чем главное дело. И поэтому сестра Клара и доктор Кениг были несчастны, а мы с Маришкой — счастливы. Хоть на полминутки, но счастливы — когда мы подносили матери ее новорожденное чудо, смешно дергающее скрюченными ручками, когда видели ее глаза, гордые, испуганные и удивленные… и, знаете? — счастливые, да-да, счастливые…
Этого счастья было ничтожно мало там, в той смертельной клоаке, полной крыс-людоедов, четвероногих и двуногих, но оно там было, это счастье, и оно было настоящим.
А в мае приехал доктор Менгеле, и приказы изменились. Менгеле любил целесообразность. Зачем уничтожать то, что можно использовать? Мы получили новые указания. Теперь запрещалось топить всех младенцев подряд. От нас требовали производить селекцию в соответствии с внешними расовыми признаками. Светловолосых и голубоглазых детей немедленно отбирали и направляли в город Накло, на денационализацию. Так это называлось. Одни попадали в немецкие семьи, чтобы стать детьми немцев. Другие оставались в специальных детских домах, чтобы стать детьми фюрера. Им давались немецкие имена и фамилии. Во время войны легко придумать историю для безымянного младенца. Особенно, если отец не знает о его существовании, а матери суждено стать пеплом в печи крематория.
К несчастью, голубоглазые попадались редко. Хотя, кто скажет — к несчастью или к счастью? Какая мать отдаст своего новорожденного ребеночка по собственной воле? Даже если понимает, что для него это — единственный шанс выжить? Некоторые просто не отдавали: мол, умрем вместе и все тут. Я не спорила. Знаете, с немцами никогда нельзя было знать заранее: правду тебе говорят или лгут? Вполне возможно, что они имели на детей какие-нибудь другие планы, типа «научных» опытов Менгеле и Кенига. Так что выбор стоял и вправду непростой. Либо отдать ребенка ради призрачной надежды на спасение, причем отдать в руки дурные, страшные… точнее сказать, палаческие руки; либо оставить его у себя, прижимать его к груди еще несколько нескончаемых суток, чувствовать биение его маленького сердца, слушать его голодный плач, видеть, как уходит из него жизнь, тобой же и подаренная, твоя, в сущности, жизнь. Так что тут каждая решала сама. Я им просто объясняла: мол, так и так, мамочка, есть, мол, еще и такая возможность, подумайте. Те, что отдавали, непременно хотели как-то запомнить младенца, чтобы потом найти, после войны. Кто-то полагался только на родимые пятнышки, но были и такие, которые помечали детей более серьезным образом — татуировкой. В середине мая я принимала роды у молодой женщины лет двадцати. Родившийся мальчик выглядел стопроцентным арийцем. По инструкции его надлежало отнести в административное здание немедленно после первого кормления. Как всегда в таких случаях, я объяснила матери ситуацию. Она заплакала.