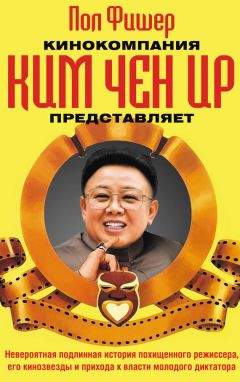Спасибо за то, что однажды вы встретились мне — в той или этой действительности — все равно. Я никогда не смогу забыть вас — в том или этом мире.
Я шел по неширокой улице — и вдруг узнал Сивцев Вражек. Строгие старинные дома, в которых, кажется, никто и не живет. Я свернул в Большой Власьевский переулок и вскоре входил в знакомый подъезд, поднимался на третий этаж. На мой звонок долго не открывали, потом лязгнули запоры, и дверь распахнулась. Я увидел какую-то лохматую немолодую женщину в халате. Стиснув руки на уровне груди, она странным образом топталась на месте, поджимая то одну голую, волосатую ногу, то другую. Глядя мне в глаза, женщина жутковато, но как-то очень знакомо улыбнулась. И я рассмеялся: передо мною не женщина старая была, а знаменитый художник Моравов, к которому я и шел по делу. Это халат и длинные волосы ввели меня в заблуждение.
Моравов один из самых выдающихся плакатистов нашего времени, и все хорошо знают его имя. Его плакаты украшали многие международные конгрессы, выставки и конференции, он автор ряда эпохальных эмблем для всяких грандиозных всемирных мероприятий, вроде фестивалей, олимпиад, универсиад. Я всегда верил, что Моравов является одним из тех великих людей, которым, слава богу, не грозит заговор: их талант сильнее всяких гибельных обстоятельств.
Слушая мои замечания относительно эскиза плаката, он дергал правой рукою волосы, левою шлепал по ляжке. Затем вскочил и стал ходить кругами по комнате. И сам не заметил, как перешел на стену и, словно муха, пополз вверх, чуть наискось, по стене, после перешел на потолок и двинулся в обратную сторону, повиснув вниз головою. При этом полы халата свесились вниз — и обнажились малопривлекательные конечности мэтра. Он все время пытался поправить халат, натягивая его на ноги, но ткань, естественно, падала так, как ей положено было падать по закону земного тяготения. Погуляв по потолку, Моравов вскоре спустился ко мне, не заметив при этом, однако, что минутою раньше совершил не совсем обычную прогулку. Как и все гении, Моравов был несколько рассеян.
Покончив с плакатом, я закурил и, рассеянно глядя на хозяина, с завистью подумал: «Хорошо же тебе живется! Всех победил — и зверей, и оборотней…»
— Тише! Тише! — замахал на меня руками Моравов и стал боком отпрыгивать от меня, словно петух.
Вот он отскочил в самый угол — дальше некуда, но, продолжая отмахиваться, все отпрыгивал да отодвигался, как бы растягивая комнату по диагонали. Удалившись от меня настолько, что его почти нельзя было различить, Моравов вдруг исчез с глаз, а комната вернулась к прежнему размеру и виду.
— Подите сюда! — прошептали у меня за спиною, и, оглянувшись, я увидел Пимена Панкратовича Моравова, просунувшего лохматую голову в приоткрытую дверь.
В квадратной прихожей, куда меня вызвал хозяин, возле низкого трюмо стоял на боку фанерный ящик, сверху застеленный бумагой, на бумаге сидела — именно сидела, а не лежала, соломенно-желтая спокойная, толстенькая морская свинка с сытыми щеками, с пустыми глазами. Пузо у нее было кругленькое, лапки аккуратно сложены на этом пузе.
— Вот, дорогой мой, посмотрите, — умильным голосом произнес гениальный плакатист. — Какая замечательная, не правда ли? Славная, хорошая моя зверюшка, — единственная, которая не мучает меня в этой жизни.
— А где же ваш сын? — вспомнил я. — Где Захарик?
— Захар… Ох, не хочется и говорить о нем… Ну, да что там, скрывать нечего… Плохо у меня с сыном, голубчик.
— Что случилось?
— Да вот сами полюбуйтесь, — с прискорбием произнес он, открывая дверь соседней комнаты.
Я заглянул в полураскрытую дверь. В лицо мне шибанул сквозняк, несший кислую звериную вонь. На широком подоконнике сидел, прислонясь мохнатым плечом к оконной решетке, и с меланхолическим видом обозревал улицу здоровенный оранг. На одной из задних лап его побрякивала цепь, которою зверь был прикован к решетке. Услышав шум в дверях, он медленно повернул голову, внимательно, но как-то совершенно бесчувственно посмотрел на нас. Затем протянул неимоверно длинную руку, достал с полки черный диск долгоиграющей пластинки и, просунув сквозь прутья решетки, сбросил на улицу через выбитую фрамугу.
— Видели? — страдальчески оклабившись, скосил на меня глаза лохматый Моравов; бледными пальцами он крутил, терзал конец пояса, словно желал его оторвать прочь. — А ведь я эту пластинку привез ему из Лейпцига!
Он захлопнул дверь, прислонился к ней спиною и, закрыв глаза, надолго замер с видом мученика. По двери с той стороны шмякнули чем-то увесистым, что разбилось вдребезги и со звоном осыпалось на пол.
— Портативный телевизор на батареях, — печально сообщил Моравов. — Купил ему в Японии, чтобы сынок не скучал в одиночестве… Вы как-то говорили мне о каком-то мировом заговоре, — продолжал Моравов дальше. — Заговор — он здесь, постучал Пимен Панкратович себя по загривку ребром ладони, для чего ему пришлось низко нагнуться передо мною. — В семье, в наших любимых детках, в родной жене и теще. Ах, только бы спасти Захарку, от полного одичания — и о другом я уже и не помышляю, мой дружочек.
Я, кажется, уснул в поезде метро и, проснувшись, обнаружил себя сидящим в пустом вагоне. Откуда-то выскочила и побежала по сиденьям рыжая летняя белка… Вид ее был странен, нелеп в безлюдном вагоне, облицованном пластиком, стеклом, дерматином — материалами, совершенно чуждыми природе белки. Она все быстрее и быстрее металась по вагону, и мне стало ясно, что участь ее предрешена. Я с грустью следил за прыжками зверька. Никогда поезд метрополитена, следующий по кольцевому маршруту, не прибудет во влажный пригородный лес, не раскроет там своих дверей, как бы приглашая лесных обитателей прокатиться с ветерком…
Поезд подходит наконец к какой-то станции, дверцы вагона с грохотом раздвигаются, белка хочет выскочить наружу, но навстречу ей плотным скоплением, отпихивая друг друга в дверях, вваливаются пассажиры. Пушистый зверек бежит по проходу вдоль вагона, пробираясь среди множества снующих ног. Добравшись до передней дверцы, поворачивается и скачет назад. И тут ее замечает некий павиан с огромными бакенбардами, в белой полотняной кепочке, вскакивает с места, на которое только что плюхнулся было, опередив устремившуюся туда же старуху с траурным венком на плече, — раздвинув руки, нагнувшись, бакенбардист крадется, покачиваясь подрывки стронувшегося поезда, внимательно следит за каждым движением белки. В вагоне поднимается шум, галдят женщины, смеются мужчины, топают ногами, хлопают в ладоши. Старуха с траурным венком быстренько занимает освободившееся место и, прислонивкколеням бумажно-проволочный символ печали, тоже с живейшим интересом включается в наблюдение за действиями бакенбардиста.
Веселый павиан, похоже, вскоре добьется успеха — белка опять дошла до конца вагона и, припав головою к дверце, неподвижно замерла… Преследователь метнулся к ней, припадая на колено, от натяжки с неимоверным треском лопнули на нем штаны по заднему шву, но все манипуляции и жертвы бакенбардиста оказались напрасными — белка с молниеносной быстротой ускользнула от него, взбежав по стройной ноге стоявшего рядом десантника живо вверх, к его голубому берету, и оттуда, пружинисто сработав задними лапками и вытянув в воздухе пушистый хвост, плавно полетела над пассажирскими головами… В то же мгновение я ощутил бесподобное чувство свободы, о котором поведал людям Экзюпери, — абсолютной свободы, что познается в небе, над всеми облаками, залитыми лунным сиянием, под огненным мерцанием звезд — трагичной свободы, постигаемой в ту минуту, когда в баке летящего самолета кончается горючее. Голубой берет юного десантника, от которого я оттолкнулся и полетел в последнее неведомое, промелькнул внизу и исчез навсегда, как синий взгляд чьих-то внимательных ко мне глаз, и я оказался в Чикаго, на верхнем этаже роскошнейшего отеля, и смотрел с высоты птичьего полета на огромный город, половина которого была залита солнечным светом и пылала тысячами отраженных окнами солнц, а вторая половина была в уютной тени, солидная, геометрически правильная, отформованная в кубики респектабельных небоскребов. Мне предстояло расстаться с женою и, оставив ее в Штатах, где у нее были затяжные дела, отправиться самолетом домой в Австралию, и я собирался в путь, но в какую-то минуту, засовывая в чемодан покупки, вдруг был захвачен мощным и упоительным чувством свободы тех, которые взлетают к небу, чтобы уж никогда не возвратиться на землю живыми. Не то чтобы я опасался предстоящего перелета на авиалайнере, и не в этот раз у меня возникло подобное чувство — уж давно, с тех пор как я отлетел от Шереметьевского аэропорта в самолете французской авиакомпании, во мне родилась трезвая и страшная уверенность в том, что я полетел лишь для того, чтобы грянуть наземь мертвым. Прожив долгие годы в богатстве, я постепенно обрел привычки богачей, совершенно переродился, но тот человек, который в Шереметьеве прощался со своим другом-белкой, всегда знал с тех пор, что все эти привычки — гнусность, к которой он втайне, оказывается, всегда стремился, и, достигнув подобной гнусности, ему уже никогда больше не взмыть над судьбою, как круто взмывает самолет над краем леса, окружающим поле аэродрома.