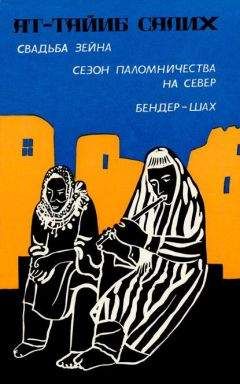— Ты шайтан или человек?
Он встал передо мной и, посмотрев на меня с высоты в сто фарсахов[62], ответил по-арабски, но с чужеземным выговором:
— Шайтан.
Мои маленькие страхи слились в один огромный ужас. Мои уши, словно они были до этого закрыты, широко раскрылись, и в ударах волн о берег мне послышались раскаты грома. Я спросил его:
— Если ты шайтан, то откуда идешь?
Он ответил, и в этом ответе еще больше проявил свое умение говорить по-арабски, хотя и с чужеземным выговором:
— Из того места, откуда приходят шайтаны.
— А откуда приходят шайтаны?
— Издалека, из-за моря.
— А почему ты сюда пришел?
— Потому что я голоден.
Мой страх сразу же рассеялся, как рассеиваются облака на небе. Я сказал про себя: «Шайтан, и чтобы был голодным, — с этим не может согласиться человеческий разум. Или он слабосильный, никуда не годный шайтан, или человек, подобный мне». Я засмеялся и услышал, как раскаты моего смеха достигли противоположного берега и возвратились назад. Я сказал ему, почувствовав себя прежним Хасаб ар-Расулом в прежнем городе Вад Хамиде перед восходом солнца:
— Эх, брат. Шайтан — и голодный? Аллах свидетель, ты такой же человек, как и я.
В это время он уже вышел из воды, и я как следует разглядел его. Был он белокожий, рослый, с зелеными глазами, как я увидел при свете костра, а в остальном такой же человек, как я или ты. Он проговорил:
— Глупец! Разве шайтаны приплывают по Нилу? Я голодный и уставший человек. Много дней и ночей мои глаза не вкушали сна, а мой живот не вкушал пищи.
— Добро пожаловать, — сказал я ему, — милости просим, тысяча приветов чужестранному гостю, идущему из божьей страны. Ты прибыл в такое место, где накормят голодного и дадут отдых уставшему. (В это время, как я уже сказал, я снова стал прежним Хасаб ар-Расулом, отцом Мохтара Вад Хасаб ар-Расула аль-Хамджана, бесстрашным храбрецом и защитником всех сирот.) Огонь у нас не затухает и гостеприимство не убывает. Один аллах знает, как мы живем. У нас одна кормилица — коза, и единственный бык без коровы. Нет у нас ни осла, ни ослиного седла. Живем мы в шалаше, еще не построили дом из глины. Есть у меня сын Мох-тар — грудной младенец. В доме нет ни масла, ни мяса, только немного проса. Сеем хлеб и ждем, что бог подаст.
Маймуна, мать Мохтара, приготовила просяную кашу, добавив в нее немного молока. Я старался есть медленнее, чтобы больше досталось гостю. В те времена мы не знали ни чая, ни кофе. Пили настой из травы с молоком, финиками и топленым маслом. Никаких таких разносолов у нас и в помине не было.
Мужчина ел с жадностью, а я громким голосом славил аллаха, словно один съел целого теленка, — может быть, господь наполнит своим благословением место, оставшееся пустым в животе гостя. Он отрыгнул, не восхвалив и не поблагодарив создателя. Я разглядел его еще раз: лицо как вырубленное из камня, а нос как у орла. Зубы как у доброго коня. Зеленые глаза, словно бирюза. Велик промысел господень! На нем полосатая форма, как у турецкого солдата, вся рваная и мокрая, с пятнами крови. Еще была у него коробка. Я спросил его, что в ней. Он, смеясь, ответил:
— Эликсир.
Я по стал пускаться с ним в долгие разговоры: после того, как он поел и попил, я повел его в мечеть, которая в те времена была простой глинобитной хижиной, окруженной соломенной оградой. Мы все были в родстве друг с другом, и наши дома стояли бок о бок. В пред-полуденное время мужчины собрались в мечети, чтобы познакомиться с невиданным гостем, и каждый принес, что мог: один — фиников, другой — молока, третий — фасоли, четвертый — похлебку. Мой дядя Махмуд — самый состоятельный из нас — зарезал двух куриц. Ради гостя мы пообедали раньше положенного срока. После обеда я рассказал им всю историю, и мы начали его спрашивать, кто он такой и откуда родом. Мой дядя Махмуд первым задал ему вопрос:
— Как тебя зовут?
Потупившись, незнакомец надолго задумался. Мы переглянулись: чего думать над таким простым вопросом? Спустя некоторое время он ответил:
— Не знаю.
Мой дядя Махмуд, как и все мы, страшно удивленный, спросил:
— Разве может человек не иметь имени?
Незнакомец возразил:
— Несомненно, у меня было имя. Не знаю только точно: Бахлюль или Бахадур, Шах или Хан, Мирза или Мирган.
Я подумал: «Все это имена джиннов, аллах не дозволяет носить такие прозвища людям», и спросил его:
— Ты кто: мусульманин, христианин или иудей?
Он снова задумался и после долгой паузы сказал:
— Конечно, я исповедовал религию, по какую, не знаю.
Тогда Абдель-Халик Вад Хамад, который отличался раздражительным характером, сердито спросил:
— О незнакомец! Разве есть такой человек, у которого не было бы религии? Может, ты поклоняешься огню, или пеплу, или рогатой корове? Скажи нам.
Я засмеялся:
— Разве мы уже установили, что он человек? А что, если он шайтан?
Рахматулла Вад аль-Кяшиф, тоже засмеявшись, произнес:
— В наше время все возможно.
Мы снова обменялись взглядами. Я чувствовал себя лично ответственным за незнакомца. Он же молчал, ничего не отвечая. Я спросил его:
— Ты помнишь, откуда пришел?
Он тотчас ответил:
— С Кавказа, а может быть, из города Шираза. Из Ташкента или Самарканда, из Хорасана или Азербайджана. Не знаю точно. Из дальних-дальних мест… Я истомился, изголодался и исстрадался.
Я вспомнил, как он явился ко мне из воды, словно волшебный сундук, и сказал про себя: «Теперь, наевшись, он снова стал шайтаном». Рахматулла Вад аль-Кяшиф, словно разгадав мои мысли, сердито сказал незнакомцу:
— Короче, скажи нам: ты человек или шайтан?
Незнакомец, не колеблясь и не задумываясь, сразу же ответил, зыркнув при этом своими зелеными глазами па Вад Аль-Кяшифа так, что тот едва не лишился рассудка:
— Человек, сын Адама, как и вы.
Мой дядя Махмуд — он был самым умным и рассудительным среди нас, нашим шейхом и вождем, — засмеявшись, сказал:
— Слава богу, что ты хоть это знаешь.
Мифтах аль-Хазна сидел, как обычно, в отдалении, поближе к двери, чтобы можно было без помехи улизнуть, если дело примет серьезный оборот. Он ничего не спрашивал и не выпытывал. Смеялись люди или сердились, он все равно молчал, словно набрал в рот воды. Так вот, этот Мифтах аль-Хазна притиснулся поближе к незнакомцу и, поколебавшись, проговорил:
— Господин должен что-то помнить. Ну, хоть что-нибудь. Подумайте хорошенько. Может, аллах вам откроет.
Абдель-Халик сказал:
— Мифтах аль-Хазна сразу превратил нашего гостя в господина, потому что у него белая кожа и зеленые глаза.
Мифтах аль-Хазна пугливо возразил:
— Попомнишь мои слова, этот человек — из Турции. Возможно, он санджак, сердар или хукумдар[63]. С ним надо быть осмотрительнее и осторожнее.
Мой дядя Махмуд засмеялся:
— Ты всегда усложняешь дело, Вад Абд аль-Мауля. Нас сейчас интересует его имя, страна и религия. Нам нет дела до его чина и звания.
Внезапно незнакомец пробудился от забытья, словно увидев страшный призрак. На его лице отразился страх. Он поднялся во весь рост и распростер перед собой руки, как бы защищаясь от надвигавшейся на него опасности. Из глаз его посыпались искры, а лицо исказилось от гнева и ужаса. Он закричал во весь голос: «Джанг, джанг!» — и залопотал что-то на незнакомом языке. Потом он схватился за правый бок, издал ужасный вопль и упал без сознания. Осмотрев его, мы увидели у него иод ребром большую рану величиной с ладонь, полную гноя, который там скопился за две или три недели. Сначала мы подумали, что наш гость скончался, но потом увидели, как его грудь стала подниматься и опускаться, а на лице выступил пот. Все время, пока незнакомец был в опасном для жизни состоянии, мы спрашивали друг друга, что бы предпринять: ведь у нас в таких делах не было ни знания, ни опыта. Мы решили, что он, несомненно, солдат, бежавший из турецкой армии. Но в те дни мы не слышали, чтобы где-нибудь шли сражения. Мы поставили для него в мечети кровать и целый месяц ухаживали за ним, а сами думали, что незнакомец не сегодня завтра умрет. Больше всех намучилась, ухаживая за ним, моя двоюродная сестра Фатыма, дочка моего дяди по отцу Джабр ад-Дара. Она была самой младшей в семье. Ее сестрами были Марьям Умм Хадж Ахмад, Халима Умм Хамад и Маймуна — мать моего сына Мохтара. Фатыма была тогда несовершеннолетней девчонкой и не такой красивой, как ее сестры. Она была тонка, как кузнечик, но стоила десяти мужчин. У нее был ум, острый как нож, а сердце — твердое как скала. Я думаю, она была единственной девушкой во всей стране с юга до севера, которая знала наизусть Коран. Она учила Коран вместе с ребятами в каморке хаджи Саада при мечети, читая его нараспев голосом, похожим на воркование голубицы. Не верьте тому, кто скажет, что он лучше ее бегал, плавал или взбирался на самую макушку пальмы. Во всем этом ей не было равных до тех пор, пока отец не запретил ей играть с мальчишками. Она была настоящим шайтаном и жила не так, как другие женщины. У нее были огромные, почти во все лицо, черные глаза. Если на нее взглянешь, она будет смотреть тебе прямо в глаза до тех пор, пока ты, мужчина, не потупишь в смущении свой взор. Ей-богу, она скакала на осле, как мужчина, сеяла и пахала наравне с мужчинами. Ее отец всегда говорил: «Всемогущий аллах, да будет он славен, дал мне четырех дочерей: Халиму, Марьям, Маймуну и Алла-Лину, наградив одним сыном — Фатымой». («Алла-Лина»[64] — это его сын Раджаб, которого так прозвали потому, что он всего боялся и постоянно восклицал «С нами бог!»)