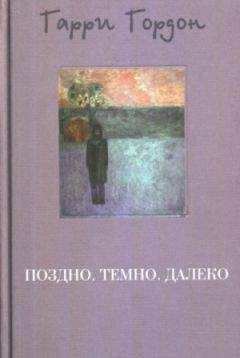— Ты куда полез, хрен одноногий!
Толпа зароптала:
— Да оставь его в покое, видишь, инвалид!
— Знаем мы таких инвалидов, под трамвай попал по пьянке, — старикашка злобно вцепился ему в плечо, — вали отсюда, алкаш.
Одноногий резко повернулся, поднял костыль, не удержался и сел на асфальт.
— Завидуешь, сволочь, — в ярости кричал он, пытаясь встать, милиционер подошел, помог ему.
— А ну их, не смотри, Кока, — сказал Карл, — ну что, читать?
Он достал из торбочки рукопись и усмехнулся.
— Поехали, — сказал Нелединский.
В пять часов вечера были они уже свободны, шесть шкаликов, на все деньги, достались им.
— А это кто? — спрашивал Кока, рассматривая фотографии.
— Это — Татуля, — Танина дочь.
— Как… Татьяна Татьяновна?
— Вот именно.
Нелединский отодвинул альбом.
— Что я хотел тебе сказать… Ты, это… В-вуй, — помотал он головой, — состоялся.
— Не то чтобы состоялся, — ответил Карл, — Но волен в подборе беды. Скорее всего — отстоялся, как буря в стакане воды…
— Это что, экспромт? — недовольно спросил Нелединский.
— Да ты что, это из ненаписанного. Где-то какие-то строчки…
Зазвонил телефон.
— Мотай скорее, — сказал Карл звенящим голосом, — у меня тут… не угадаешь.
— Кто, не томи душу, — гудела трубка.
— Кока, кто еще, — сжалился Карл.
— Николай Георгиевич! — завыла буря в телефоне, — еду.
Нелединский посмотрел вопросительно, с опаской даже.
— Увидишь, понравится, — пообещал Карл.
— Наслышан, наслышан, — Магроли тряс руку Нелединского, пока Карл не остановил его.
Неожиданно приехал Сашка с бутылкой перцовки. Кока, знавший уже о его чудесном появлении, ходил вокруг него, как на выставке, поглядывал вверх, на лицо, махал рукой, как будто сбившись с мысли, и обходил снова.
Сашка постоял, постоял и погладил Николая Георгиевича по голове.
Николай Георгиевич выпил водки, ткнул пальцем в Ефима, и тихонько, проникновенно запел:
Грустные ивы склонились к пруду,
Вечер плывет над водой,
— он сделал жест, приглашающий остальных подхватить:
Тому границы стоял на посту
Ночью боец молодой —
В чаще лесной он шаги услыхал
— И с автоматом — Залег, — шепотом закончил Нелединский и дал отмашку, как бы приглашая всех залечь тоже.
Пели потом все вместе — Фатьянова, Исаковского, Ошанина…
— В соцреализме, особенно в песне, ковыряться еще специалистам и ковыряться, — сказал Карл, — ладно, социальный заказ. Но если совесть есть, а она есть, — я вам такое напишу…
— Естественно, — твердым голосом сказал Ефим Яковлевич, — под давлением увеличивается плотность.
Неожиданное это познание физических законов испугало всех и отрезвило.
— Что это с тобой, Фимочка? — спросил Карл, — спой лучше «Дубэ зелэный».
Магроли нетерпеливо разорвал пачку «Примы», прикурил и стал тянуть страстно, со свистом, будто старался добраться до самой ее сути.
«Дорогие мои батьки! Очень беспокоюсь за вашу хохляцкую перестройку. Представляю себе, если здесь все наперекосяк, то с вашим самостийным „Рухом“ вы далеко пойдете. Не дай Бог.
Кстати, неловко об этом писать, но когда еще увидимся, — я теперь крещеный, православный христианин Фома-верующий. Так уж получилось.
— Страшно стало за вас, за себя, за всех. Вот молюсь теперь и, кажется, помогает.
В Москве такая чехарда, что описать трудно. До вас дошел „Невозвращенец“ Кабакова? Совершенно гениально. Вот и Карлуша написал стишок… Кстати, он вам кланяется. Его Сашка с женой собираются сваливать в Америку, а Карла еще об этом не знает. Что-то будет…
Лелька с Мишаней живут в Ясенево, тут, где я прописан, рядом с Юрочкой, образовалась луганско-одесская мафия. Карла им понравился, Леля, правда, считает его диковатым. Он обозвал ее любимых обэриутов обер-иудами, за то якобы, что ради красного словца не пожалели Слова.
Винограй разошелся с Эммкой и пьет по-черному. Несчастная Ирочка. У меня на этом фоне, как ни странно, все хорошо. Аж совестно. Я теперь маститый критик и работаю старшим научным сотрудником в НИИ Киноискусства, где директором Лесь Адамович. Неслабо, как говорит гениальный Алеша, я вам о нем писал. Он, правда, ничего сейчас не пишет, рифмы, говорит, кончились.
Да, батьки мои, чуть не забыл — я женился. Ради Бога, не беспокойтесь — Кларисса Борисовна женщина хорошая, плавала штурманом по Охотскому морю. У нее трое детей: старшей — девятнадцать, а младшей — тринадцать. Среднему — Кузе — шестнадцать, совсем уже взрослый, и непонятно — он мне пасынок или я ему сын. Кларисса обещала мне родить девочку, ей ничего не стоит. Именно девочку, и я назову ее Машей и буду вытирать ей попу. Карла дразнится, говорит что я каждое утро оглядываю постель — не родилась ли дочь, не плачет ли.
Ладно, дорогие, когда все утихнет, мы всей семьей приедем к вам в гости, обязательно. Будьте мне здоровы, обнимаю вас, да хранит вас Бог».
Не знаю, насколько гениален был Кабаков, и Петрушевская, и другие, под знаменем какого — общественного ли? — садизма-мазохизма, под руководством какой партии трепетали они, только давно уже все рассказал поэт:
«Встает заря во мгле холодной,
На нивах шум работ умолк,
С своей волчихою голодной
Выходит на охоту волк;
Его почуя, конь дорожный Храпит. —
и путник осторожный
Несется в гору во весь дух;
На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева —
А главное —
В избушке распевая, дева
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней»
В темном пятнышке этой лучинки не сразу заметила Татьяна, что дети выросли, у Татули у самой уже две девочки, да какие! — Сашенька и Машенька, и Женя Тихонов, тишайший и медлительнейший их папа, окончив художественное училище, учится на богословском факультете.
Уехали в Америку Сашка и жена его Мария, оба тощие, растерянные, с горшком в авоське, с годовалой Анькой, кричащей на весь аэровокзал: «Да-ай!».
Появилась Карликова дочка Маша из Подольска, у Маши тоже две девочки, а мужа, майора-танкиста, она выдернула из армии. Ходила к министру — не помогло, тогда Маша купила бутылку водки и сказала: «Пей, а на работу не ходи. И не смей платить партийные взносы».
Приезжала редко, с подарками, делилась своими тайнами, а подросшая Катя вела себя, как мачехина дочка — заставляла мыть посуду вместо себя. Помыв посуду, Маша учила недоверчивую Катерину нравиться мальчикам.
В свете лучины всплыл Ян Яныч, внезапно и не торопясь, как старая щука возле лодочки. Увлек Карла к себе на Пелус-озеро, показал пламенеющую калину, черные доски причала. В вымирающей деревне тихонько дышала у себя на печи последняя старуха. По ночам на озере в голос страдала гагара, не улетевшая со стаей, обреченная, подранок, видимо.
Промелькнули вернисажи на Битце. Торговать картинами Карл, оказалось, начисто не умел, стоял, замерзший и недружелюбный, не то что Илюха, — Илюха царил, убалтывал, негодовал, и очень скоро оброс поклонниками и коллекционерами. Тем не менее работал он все серьезнее, и Карл хвалил его:
— Как художник ты сначала научился говорить «мама», теперь ты умеешь говорить «здравствуйте». Если научишься говорить «спасибо», — большего и желать нечего.
Промелькнул, проездом из Печоры Морозов с Людой, лобастый, длиннобородый, набожный.
— Нехристи вы с Катькой, нехристи, — корила Татьяна Карла, — за вас и записку батюшке передать нельзя.
— Танечка, ты же знаешь, что я всегда последний, — отмахивался Карл. — Нет, я серьезно. Ну что за поветрие…
— И Ян Яныч — тоже по поветрию? И Тихоновы? И Морозов?
— Ну, для Морозова это очередное сыроедение…
— Молчи, — сердилась Татьяна, — старый человек, с чувством слова, а несешь иногда такое… При чем тут поветрие? Прежде чем родиться, никто не спрашивает, как там погода, и что надевать, и что скажут…
Морозов заставил-таки Карла надеть штаны, поймал на вежливости, и вывез в Коломенское гулять.
— До вас дошла книга протоиерея Александра Шмемана? — спрашивал он Татьяну, — а «Протоколы сионских мудрецов»?
Он читал святых отцов с удовлетворением посвященного, как читал некогда ксерокопии Солженицына и Набокова.
По Коломенскому Морозов ходил, как в гостях у знатного, но хорошего человека, мягко улыбался.
— Боже, как хорошо, — произнес он остановившись.
Карл недоверчиво глянул. Но Морозов не скосил ироничного взгляда, он и вовсе не ждал реакции — он смотрел на белое небо, как на картину.
— Не знаю, неизбежна ли книга, — размышлял Карл, — но это… «не стойте только над душой, над ухом не дышите».