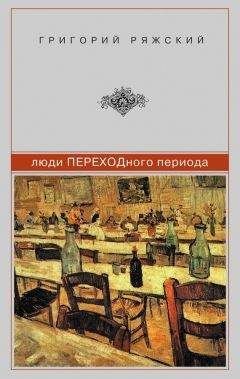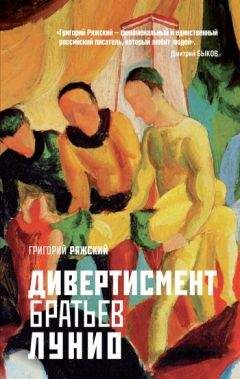— Но он ведь умер в 1939-м, чего же он тогда не в верхних ходит и не с той стороны от Входа сидит, а у Овала хороводит? — не понял я. — Он-то как никто заслужил, я по нему спецальный курс брал в университете, ещё когда в Торонто жил, в «Ryerson University». Он, между прочим, важнейшую вещь для всех нас сформулировал. Сказать какую?
— Давай, — согласились оба, — другой раз хотя бы в курсе будешь, кому очередь занимать.
— Так вот, он сказал: «Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что это предполагает ответственность, а она большинство людей страшит». Точка. — Я последовательно посмотрел на обоих. — И как вам?
— Нормально, — чуть подумав, выдал Павел, — сказано как высечено.
— Больше наколото, чем высечено, — не согласился Пётр, — и правильно страшит, потому что свобода — это рай, а в него поди ещё проникни, по себе знаем, — он горестно вдохнул и выпустил обратно порцию пустоты, — а даже и проникнешь если, то неизвестно, какой ещё былью сказочка окажется. Но всё равно призывно, ничего против такого особенно и не скажешь, мощный старец, наш человек, хоть и юркий как ящерка. Послушаешь такого и понимаешь, что есть чем после таких слов себе оболочку грузить. Так он помер-то, как все, или подранок был, как мы, я не понял?
Но я уже понял, я вспомнил.
— Подранок, — с убеждённостью пояснил я обоим поводырям. — Он ещё задолго до смерти чудовищно страдал от рака гортани, а умер путём эвтаназии, через укол, сам об этом просил. Стало быть, когда начал об этом думать, тогда она уже от него и отлетела, душа, не вынесла этого мучительства — всё сходится. Наш он, здешний, параллельный.
— Надо б, может, снова нам туда наведать? — Паша вопросительно глянул на Петра. — Давно ж не проведывали. Вдруг на чего-нибудь своё же интересное напоремся?
— Вы пока подумайте, братья, — напутственно сказал я им и поднялся, — а я схожу, ладно? Хотя бы узнаю, что это за Овал такой и с чем его кушают. Как дорогу-то найти и как обратно потом?
— Да как всегда, — отмахнулся Петя, — думаешь об нём, и вперёд, через тьму и мрак.
— Оно само выведет, — уточнил предстоящий маршрут Паша, — а после как рассеется, ближе к холмам держись и сразу в хвост занимай, который толще. А потом уже за тебя всё решат, только громче ори, если доорёшься. А дедушку нашего засекёшь, если он где ненароком промелькнёт, то привет ему от нас обоих передай, скажи, братья, мол, помнят тебя обои и почитают, Зигмунд, и не хворай больше горлом, и всё такое…
Не стану утомлять вас тем, как я добирался до Овала: поход этот и на самом деле оказался не таким сложным, скорей, даже приятным. Особенно удивился я пейзажу, который окинул зрением оболочки, взобравшись на лысый пригорок. Подумал, приступ дежавю, будто когда-то давно уже пролетал я эти места верхом на горячем скакуне, и почему-то Ленка, моя Ленуська, сидела сзади, обхватив мой торс своими руками, и мы неслись с ней чёрт знает по каким неведомым местам. Мы скакали, ничего не замечая вокруг, лишь ветер свистел в ушах, и мелкий пустынный песок выстреливал мелкими взрывами из-под копыт нашего скакуна. И не существовало времени никакого, мы просто оба перестали о нём помнить, рассекая это безвоздушное, никем не заселённое пространство на границе бескрайней туманной пустыни и светлой равнины с холмами вдалеке.
Дальше — отстоял, честно заняв очередь в хвосте и составив пару неулыбчивой даме преклонного возраста. Она окинула меня оценивающим взглядом, но, видно, что-то не сошлось в её представлениях о выгодном или прекрасном, и она отвернулась.
Потом пошло быстрей, и шло так вплоть до самого момента, когда я, пребывая в полной невесомой тьме, оказался лицом к лицу с самим собой. Явно с той стороны кто-то был, и этот кто-то был я сам.
— Ге-ер! — заорал я что было сил. — Ге-ерка-а!!!
Сопутствующего гула от работающего вентилятора, на который я рассчитывал, уши мои не засекли, тем не менее с первого раза голос мой на ту сторону так и не пробился. Однако сам я в это же самое время слышал, как лично распекаю поваров, голос одного из которых сразу же признал. Того, что вредничал постоянно насчёт зарплаты, изводя Ленку в равной мере занудством и настырностью. Такое было мне вообще-то несвойственно, вероятно, какие-то особые причины вынудили меня поступить именно так. Я выговаривал ему, одновременно постукивая ножом по разделочной доске, скорей всего, чего-то шинковал:
— Ты пойми, Николай, выручка падает второй год подряд, чего бы мы ни предпринимали. Сам же знаешь прекрасно, делаем всё как раньше, а стараний прикладываем на порядок больше. Рецептура, то-сё, всё самое свежее, плюс обслуживание на высоте, как всегда, а клиент всё равно уходит, включая постоянных. Даже Витёк этот из банка перестал заказывать, хотя раньше, сам же помнишь, дня не проходило, чтобы кто-то от него не забрал или сами мы им не отправили. А возила намекает, что невкусно, хозяин говорит, у Германа стало, раньше было — пальцы обглодаешь себе, после как поешь, а теперь рот дерёт, будто вообще без души сготовлено, без сердца, через жопу. Был, говорит, Герман, да весь вышел, за быстрыми бабками, видно, погнался. Если б, говорит, речь об угле ещё шла или о шлаках каких-никаких, то было б хотя бы понятно — оно ж мёртвое изначально, да гори оно любым огнём, понимаешь, лишь бы бабло текло. А тут-то живое всё, чувствительное, прямо ж в человека идёт напрямую, тут нельзя мошенничать, тут не поймут, шарахаться станут, кончится при таких подходах любое уважение, даже несмотря на всю прошлую любовь и дружбу. Так в чём дело, Николай, я тебя спрашиваю? О каких деньгах вообще может идти речь, если кругом сплошные убытки! Если так и дальше пойдёт, то ничего не останется, кроме как закрыться, этого, что ли, хочешь ты, Коля? И вы все, — видно, я обратился уже ко всему поварскому персоналу, — если мы в самое ближайшее время не изменимся, не найдём новые варианты удержать наших гостей, то всё, пиши пропало, больше нам с вами делать тут нечего, друзья мои дорогие, приехали, как говорится…
Это была новость! Нет — шок! Уж чего-чего, а за репутацию своего заведения я был спокоен. По крайней мере, после того как мы успешно разогнались, определились с контингентом и выработали гибкие варианты меню, которые легко и мобильно могли подвергаться изменениям под любой, по сути, случай. За это нас и любили, и не оставляли вниманием. А музыка! Ленка моя, умница, солнце, такого напридумывала, всё предусмотрела: то у неё едва слышно ласкают уши наши любимые «Битлз», то вдруг их сменит рок, от старого до самого современного… тут же, откуда ни возьмись, токката и фуга ре минор для органа, и сразу после них — струнный квартет, который внезапно сменится волшебным симфоджазовым трио, и уже оно, незаметно накачав зал энергетикой едва уловимого безумия, вдруг сорвётся в сумасшедшее соло Джона Маклафлина Маховишну или, как по мановению волшебной палочки, вернётся к тихому благостному «Yesterday»… Многие же ходили просто послушать и посидеть на антресолях, исключительно с десертом, вообще не выпивая и без горячего. Денег оставляли немного, но нас это не огорчало и не смущало: нам обоим важнее было разделить с ними радость от того, что мы всё это придумали, а они оценили и не устают от нас и нашей «Шиншиллы». И на тебе, вот это номер! Как же так — невкусно!!! Почему?! Ведь ничего же не изменилось: ни рецептура, ни основное меню, ни отношение к делу!!
Я даже на какое-то мгновенье забыл, как оказался в этой непроглядной тьме, вися в невесомой чёрной безвоздушке и пытаясь достучаться до себя же паралельного. Однако, опомнившись, я всё же снова осуществил попытку запустить канал связи и ещё громче прежнего заорал в зыбкую темноту:
— Ге-е-е-ер!!! Это я, Ге-е-ерк-а-а!!! Отзови-и-и-сь! Ты слышишь меня-а-а?!!
Внезапно на той стороне замолкли всякие разговоры, и сделалось заметно тише. Теперь я слышал, как нечто, обжариваясь, шипит на сковороде и что-то негромко булькает неподалёку от моего параллельного. Потом — всплеск! И шипение это вскрикивает будто и, охая, присаживается обратно на сковороду. Подобным образом в процессе приготовления вести себя может только одно блюдо, другие варианты не издают похожих звуков. Знаю, потому что сам же и придумал. Называется «boeuf d’origine avec le cognac»[16]. Значит, так, смотрите и запоминайте, в чём тут содержится оригинальное. А вот в чём. Берем с полкило говяжьего филе, режем на средние кусочки, обжариваем чуть-чуть на сливочном масле, добавляем молотый имбирь, соль, розмарин. И вливаем стакан коньяку, настоящего, горючего, без обмана. И тут же поджигаем. Смотрите, что получается: говядина как бы и тушится в коньяке, но одновременно и горит, обретая дымчатый привкус. Получается нечто вроде слегка притушенного говяжьего шашлыка. Коньяк уйдёт — образуется корочка. Внутри же филе останется практически с кровью. И запах… Главная хитрость — уметь отследить баланс между влажным и сухим, жаром и паром, дымом и огнём. Доходчиво? И от этого всего народ валит в другие места? Не верю! И вновь ору как ненормальный: