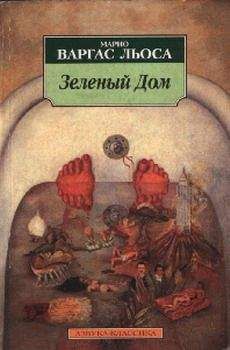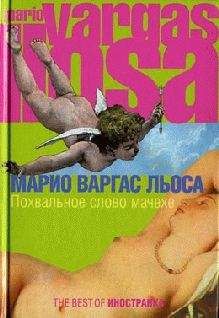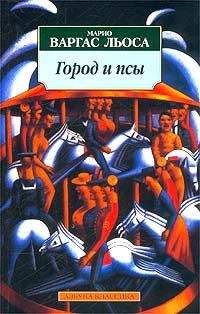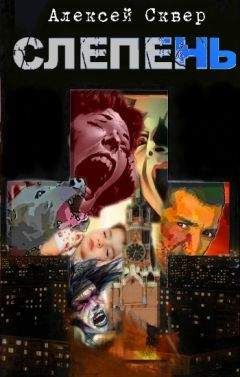— Почему вы не уговорили его, — пролепетала Дикарка. — Когда с ним говорят по-хорошему, он понимает. Почему вы хотя бы не попробовали.
Чунга попробовала: пусть он уберет свой револьвер, кого он хочет запугать.
— Ты слышала, Чунга, как он давеча обругал меня по матери, — сказал Литума. — И лейтенанта Сиприано тоже, хотя он его даже не знает. Посмотрим, как ведут себя такие матерщинники, когда от человека требуется хладнокровие и выдержка.
— Что с тобой, фараон, — заорал Семинарио, — к чему весь этот спектакль?
И Хосефино перебил его: сеньор Семинарио напрасно притворяется, к чему прикидываться пьяным? Пусть лучше признается, что попросту боится, не в обиду ему будь сказано.
— И его приятель тоже попытался помешать им, — сказал Болас. — Мол, пойдем отсюда, брат, не впутывайся в скверную историю. Но Семинарио уже взбодрился и отпихнул его.
— И меня тоже, — сказала Чунга. — За то, что я крикнула: перестаньте, что за безобразие, перестаньте, мать вашу так.
— У, мужик в юбке, — сказал Семинарио. — Убирайся к чертям, не то я тебя продырявлю.
Литума кончиками пальцев держал перед собой револьвер, глядя в пузатый барабан с пятью отверстиями, и говорил негромко, наставительным тоном: сначала смотрят, пустой ли он, не осталось ли в нем пули.
— Он обращался вроде бы не к нам, а к револьверу, — сказал Молодой. — Такое было впечатление, Дикарка.
И тут Чунга вскочила, бросилась через зал и выбежала, изо всей силы хлопнув дверью.
— Когда они нужны, их никогда не видно, — сказала она. — Мне пришлось дойти до памятника Грау, чтоб найти двух полицейских.
Сержант взял одну пулю и, держа ее двумя пальцами, поднял повыше, чтобы на нее падал свет голубой лампочки: потом берут патрон и вставляют его в револьвер. И Обезьяна — ты потерял контроль над собой, братец, хватит, пойдем домой, в Мангачерию, и Хосе тоже, со слезами в голосе — не играй с этим револьвером, братец, послушай Обезьяну, уйдем.
— Я не могу вам простить, что вы не объяснили мне, что происходит, — сказал арфист. — Из-за криков братьев Леон и девушек я сидел как на иголках, но такого я и представить себе не мог, я думал, они просто дерутся. — Никто не догадывался, что произойдет, маэстро, — сказал Болас. — Семинарио тоже вытащил револьвер и водил им перед носом Литумы, мы так и ждали — вот-вот грянет выстрел.
Литума оставался все таким же спокойным, а Обезьяна — не давайте им, остановите их, случится несчастье, скажите ему вы, дон Ансельмо, вас он послушает. Рита и Марибель плакали, как плакала теперь Дикарка, а Сандра — пусть он подумает о своей жене, и Хосе — о ребенке, которого она ждет, не будь упрямым, братец, пойдем в Мангачерию. Раздался сухой щелк — сержант сомкнул ствол с рукояткой. И ровным голосом, невозмутимо — потом замыкают револьвер, и все в порядке, сеньор Семинарио, чего он ждет, пусть приготовится.
— Как влюбленные, которым что говори, что не говори, потому что они витают в облаках, — вздохнул Молодой. — Литуму заворожил револьвер.
— А он заворожил нас, — сказал Болас, — и Семинарио слушался его как мальчик. Как только Литума приказал, он разомкнул свой револьвер и вытащил все пули, кроме одной. У бедняги дрожали пальцы.
— Верно, сердце ему говорило, что он умрет.
— Все в порядке, а теперь, не глядя, положите руку на барабан и крутните его несколько раз, чтоб не знать, где пуля. Крутите на всю железку, как рулетку, — сказал сержант. — Потому это и называется русская рулетка, арфист, понимаете?
— Хватит разглагольствовать, — сказал Семинарио. — Начнем, поганый чоло.
— Вы в четвертый раз меня оскорбляете, сеньор Семинарио, — сказал Литума.
— Мурашки по коже бегали, когда они крутили барабан, — сказал Болас. — Как будто два мальчишки волчок запускали.
— Видишь, девушка, что за люди пьюранцы, — сказал арфист. — Надо же — поставить на карту жизнь из-за одной только гордости.
— Какое там из-за гордости, — сказала Чунга. — С перепоя и чтобы мне насолить.
Литума отпустил барабан. Теперь полагается бросить жребий, кому первому, но неважно, он его вызвал — Литума поднял револьвер, — ему и начинать — приложил дуло к виску, — зажмурить глаза — и зажмурил глаза — и выстрелить — и нажал собачку: щелк, и залязгали зубы. Он побледнел, и все побледнели, раскрыл рот, и все раскрыли рот.
— Замолчи, Болас, — сказал Молодой. — Не видишь, что она плачет?
Дон Ансельмо погладил Дикарку по голове и протянул ей свой цветастый носовой платок — не плачь, девушка, дело прошлое, что уж теперь, а Молодой зажег сигарету и затянулся. Сержант положил револьвер на стол и стал медленно пить из пустого стакана, но никто не засмеялся. Лицо у него было мокрое от пота.
— Ничего не случилось, не волнуйтесь, — умолял Молодой. — Вы повредите себе, маэстро, клянусь вам, ничего не случилось.
Ты заставил меня испытать такое чувство, какого я никогда не испытывал, — пробормотал Обезьяна. — А теперь уйдем, прошу тебя, братец.
И Хосе, словно очнувшись, — это незабываемо, братец, ты настоящий герой, и зажужжали девицы, столпившиеся у лестницы, и завопила Сандра, и Молодой с Боласом — успокойтесь, маэстро, не волнуйтесь, а Семинарио сердито оттолкнул стол — тише, черт побери, теперь моя очередь, замолчите. Он поднял револьвер, приставил его к виску, но не зажмурил глаза, а только вобрал в грудь воздух.
— Мы с фараонами услышали выстрел, когда входили в поселок, — сказала Чунга. — Выстрел и крики. Мы стали ногами дубасить в дверь, но вы не открывали, и жандармы вышибли ее прикладами.
— Только что умер человек, Чунга, — сказал Молодой. — Кто же в эту минуту мог думать о том, чтобы открыть дверь.
— Он повалился на Литуму, — сказал Болас, — и они оба упали на пол. Приятель Семинарио закричал, чтобы позвали доктора Севальоса, но от испуга никто не мог двинуться с места. И кроме того, все уже было бесполезно.
— А он? — едва слышно сказала Дикарка.
Он смотрел на кровь, которой забрызгал его Семинарио, и ощупывал себя, без сомнения думая, что это его кровь, и ему не приходило в голову встать, и он все еще сидел на полу, ощупывая себя, когда ворвались жандармы с винтовками наперевес — ни с места, если с сержантом что-нибудь случилось, им не поздоровится. Но никто не обращал на них внимания — непобедимые и девицы метались по залу, толкая друг друга и натыкаясь на стулья, арфист дрожащими руками цеплялся то за одного, то за другого — кто, кто умер? — и один из полицейских встал перед лестницей и заставил попятиться тех, кто хотел убежать. Чунга, Молодой и Болас наклонились над Семинарио. Он лежал ничком с револьвером в руке, и в волосах его расплывалось липкое пятно. Его приятель стоял на коленях, закрыв лицо руками, а Литума все ощупывал себя.
— Жандармы спрашивают — что случилось, сержант? Он имел наглость напасть на вас, и вам пришлось уложить его? — сказал Болас. — А он, как в беспамятстве, на все отвечает: да, да.
— Сеньор покончил с собой, — сказал Обезьяна. — Мы тут ни при чем, дайте нам выйти, нас ждут наши семьи.
Но жандармы заперли дверь на засов и охраняли ее с винтовками на изготовку, держа палец на спусковом крючке, и вид у них был — не подступись.
— Будьте людьми, ради Бога, дайте нам выйти, — повторял Хосе. — Мы тихо-мирно развлекались и ни во что не вмешивались, клянемся вам всем святым.
— Принеси сверху одеяло, Марибель, — сказала Чунга. — Надо его прикрыть.
Ты одна не потеряла голову, Чунга, — сказал Молодой.
— Потом мне пришлось его выбросить, ничем нельзя было вывести пятна, — сказала Чунга.
— Странные вещи с ними случаются, — сказал арфист. — И живут они не так, как другие, и умирают не так, как другие.
— О ком вы говорите, маэстро? — сказал Молодой.
— Обо всех Семинарио, — ответил арфист. С минуту он сидел с открытым ртом, будто собираясь что-то добавить, но больше ничего не сказал.
— Я думаю, Хосефино уже не придет за мной, — сказала Дикарка. — Уже очень поздно.
Дверь была открыта, и через нее вливалось солнце, пламенея, как прожорливый пожар, во всех уголках зала. Высоко-высоко над крышами поселка сияла голубизна безоблачного неба, а поодаль виднелись золотистые пески и редкие, низкорослые рожковые деревья.
— Мы подвезем тебя, девушка, — сказал арфист. — Так тебе не придется тратиться на такси.
Каноэ бесшумно пристают к берегу, и Фусия, Пантача и Ньевес выскакивают на землю. Они на несколько метров углубляются в чащу, садятся на корточки, тихо переговариваются. Уамбисы между тем вытаскивают из воды каноэ, прячут их в кустарнике, заравнивают следы в прибрежном иле и, в свою очередь, входят в лес. В руках у них пукуны, топоры, луки, на шее — связки стрел, а на поясе — ножи и просмоленные камышовые трубки с кураре. Их лица, торсы, руки и ноги сплошь покрыты татуировкой, а зубы и ногти выкрашены как в дни больших празднеств. Пантача и Ньевес вооружены ружьями, у Фусии только револьвер.