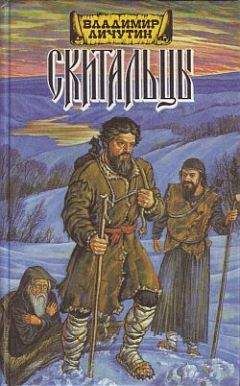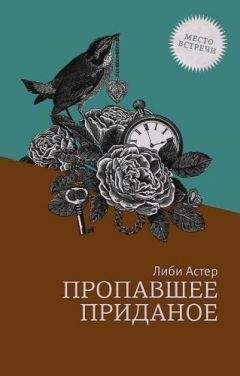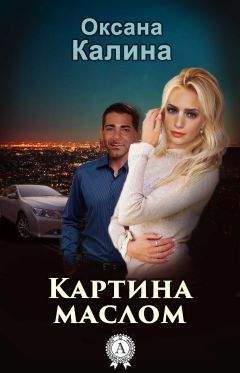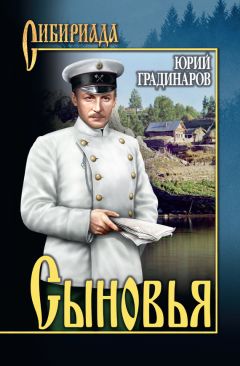А только Петра Афанасьич занес ноги в избу, выхватила из-под лавки дочернюю позорную рубаху, замахала под носом:
– Вот тебе, вот тебе, – а сама плачет, по желтому лицу слезы горохом. – Басурман-то привечаешь, а они пакостят, на позор перед всей деревней выставили.
– Загунь, колода пуста, че это? – возвысил голос Петра Афанасьич.
– Че-че, и неуж не видишь?
– Говори толком-то, не мельтеши...
– Да толком... Тут скажешь толком, ведь барин-то, что гостевал намедни, Тайку нашу изнасилил. Над красавушкой голубушкой надругался...
– Вот она, беда-то. Сердцем чуял, – тоскливо прошептал Петра Афанасьич, растерянно сел на лавку, но тут же безумство захлестнуло его, лицо побагровело и стало страшным.
– Убью его... Где он, сколотыш? Это он, он все, пакостник, зло наше.
– Осподи, опомнись, опомнись, не бери зла на душу, – захлопотала Августа.
– Сгинь, сгинь, нечистая. Яш-ка-а! – заорал на весь громадный двор, покачиваясь, пошел к порогу, как раненый зверь. Никогда не думал Петра Афанасьич, что так может болеть душа. – А он-то, фендрик, головастик, как гость хороший сидел тут. И его убью, всех... нынче же. Яш-ка-а, сколотыш, не прячься, все одно разыщу, под землей раскопаю.
Яшка вошел неожиданно, кафтан на нем распахнут, руки на груди; слушал терпеливо, как орет хозяин. Петра Афанасьич подступался, махал руками, все норовил стегнуть кулаком парня, но встречал такой пронзительный взгляд, такая глубина была в посветлевших Яшкиных глазах, что невольно спотыкался мужик, захлебывался словами, потом одышка взяла, упал на лавку, торопливо забегал руками по рубахе, отыскивая пуговицы. Яшка все так же стоял недвижно у порога, только ссутулился больше, разжал онемевшие кулаки и глаза потухли, потемнели, погасли в них пронзительные огни.
– Не уберег, эх ты, а я-то... А может, ты? – прошептал тихо и горестно: две гордости, две похвальбы было у Петры Афанасьича – лошади и меньшая девка Тайка, и вот радость сердечную своей рукой подкосил, сам, выходит, под корень подрубил дочь-красавушку.
– Батюшка, Петра Афанасьич, прошу не казнить, прошу выслушать, – с печалью в голосе начал Яшка. – Застращал он меня, каторгой застращал.
– И не заступился, чего не заступился? За хозяйскую дочь жизни своей должно не зажалеть.
– Барин ведь, спробуй на барина руку поднять, – покорно оправдывался Яшка, потом стал рассказывать, как случилось все, а Петра Афанасьич слушал, обвалившись спиной к стене, и, закрыв глаза, представлял, как он нынче же поедет в Мезень, зайдет в земскую канцелярию и прилюдно убьет нехристя, как собаку убьет, а там пусть делают с ним что хотят... Всевышний, зришь ли ты сию несправедливость? Праведный, подвигни меня на безумство во имя добра.
– Я тебя видеть не хочу. А его поеду и в гроб уложу, – как давно решенное, спокойно сказал Петра Афанасьич, прислушиваясь к своему голосу.
– Убить-то эко диво. А после вас в колодки закуют и в Сибирь-матушку на страданье...
– Вон, вон, – вяло прикрикнул хозяин.
– Я-то уйду, – бормотал Яшка. – Меня, сироту, каждый изобидеть может. А мне вас всех жаль. – Замедлил шаги у порога, ждал спиной, когда остановит хозяин.
– А, убежать задумал? Я все вижу, от меня не сокрыться вам. Ну-ко сядь, сядь на лавку, – грозно приказал Петра Афанасьич, и в голосе мужика Яшка услыхал задумчивое сомнение. – Убить-то что, это ты верно сказал, сколотыш. А потом из-за нехристя страдай. Упекут, куда и ворон не залетает, истин Бог, упекут, а было бы за кого, тьфу, прости Господи... И девке вдруг загорелось, приспичило об эту пору. Не нами сказано, что у бабы ум-от в заднице. И ничем, осподи, неужели ничем нельзя было помогчи? Всю ли правду ты мне выложил?
– Как есть на духу...
– Ума не приложу, как поступить.
– Может, вам в Соялу стоило бы съездить самим да порасспросить.
– Он в Совполье поднялся? Да, да... назад ежели, то верхней дорогой...
– А то начнут звонить, разведут по деревне, сояльцам только на язык попади.
– Как нехорошо, как нехорошо все случилось. И обратно не вернешь. Кабы обратно повернуть...
– За потраву-то штраф полагается.
– За потраву-то да, там другой резон... Ах ты, басурман, на что он меня толкает, – запоздало возвысил голос Петра Афанасьич. – Ну и собака, ну и собака. Тут Господне Провидение, ох ты, осподи и прости. Как чуял я, будто душой слышал, когда наговаривал: расти, Яшка, за Тайку отдам.
– Как скажете...
– Ты что, сколотыш, и взаболь подумал? Да лучше своими руками утоплю...
– Как прикажете, Петра Афанасьич, только не с руки вам это, – намекнул Яшка, глянул в красное безбровое лицо хозяина, и в глазах его родился прежний пронзительный свет.
– Ну ступай, сотона. Ступай же прочь, диавол...
А Тайку взяла лихорадка и не отпускала. Пришлось бабку Соломонею еще не раз в дом звать. Та двенадцать иродовых дочерей вспоминала и нашла болезнь от четвертой – знобеи. В чашку с квасом соли щепотку бросила да три уголька, на сторону подула и ножом чертила кресты да нечаянно тем квасом сбрызнула на Тайку и ложку кваса сквозь зубы влила, а остальное повелела со взвоза на четыре стороны наотмашку выплеснуть; лицо девке обтереть спинкой рубашки да поить настоем из черной травки по ложке до пяти раз в день, а как лучше будет, то давать заварки тысячелистника из муравленого горшка.
Тайка еще в себя не пришла, когда Петра Афанасьич собрался, не мешкая, в Мезень, а перед тем в молельне творил заговор трижды, в воду, да в воск, да в белый плат, да в маленький кусочек хлебца: «Плюнь, помни и помяни, а сохни по мне, раб Божий Сумароков, все начальные и чиновные люди, и судьи праведные, смирны и кротки, и милостивы будьте. Аминь». Потом водою той умылся, воск положил ко кресту, хлебец съел, а платом утерся. Еще плохо иль хорошо, но написал собственноручно две жалобы в воеводскую канцелярию на уездного землемера капитана Сумарокова; одну запечатал хлебным мякишем и отдал Яшке, а вторую в кафтан положил. Тут только Петра Афанасьич почувствовал себя сохранным от злых сил и нечестивых козней и ранним утром выехал в Мезень.
Ему ни с кем не хотелось встречаться, чтобы не расплескивать свою душу по мелочам, чтобы не выдать себя в случайном разговоре, а потому, противу обыкновения, по гостям не ходил, чаи-вина не распивал в купеческих семьях, а оставил коня на постоялом дворе и сразу ушел в город. Даже на самое плохое настроился, может, и на смерть, а потому Яшке, перед тем как уйти, строго наказывал постоялый двор не покидать, поджидать хозяина до полуночи, и если он не вернется, то заночевать и наутро самолично отнести письмо в воеводскую канцелярию.
Петра Афанасьич выследил землемера на квартире; Сумароков ужинал в благостном расположении духа. Перед тем как войти в избу, мужик ухватился за скобу, чтобы окончательно укрепить натуру, и прошептал: «Вставайте, волки и медведи, и все мелкие звери, лев-зверь сам к вам идет». И Сумароков действительно растерянно приподнялся, когда увидел в дверях покорную и робкую фигуру Петры Афанасьича.
– Как вы здесь очутились? – спросил он, заикаясь, и серебряная вилка чуть не выпала из руки. – Вас никто не остановил? Глаша, Глаша! – закричал Сумароков. Дверь открылась, просунулось простоволосое чернявое лицо.
– Вы меня звали, Никита Северьянович?
– Ты что это, голубушка... Проходят тут всякие, натопчут, тебе же убирать. – Сумароков приходил в себя.
– Я в лавку за постным маслом, на минуточку, думаю, – женщина смерила удивленным взглядом громоздкую фигуру Петры Афанасьича и снова жалобно и молча спросила глазами Сумарокова, мол, как поступить прикажете.
– Поди, поди. Следующий раз, сударыня, только чтоб... Так что вам угодно, милостивый сударь, и кто вы?
– И не признали, ваше благородие? – дурашливо посмотрел Петра Афанасьич. Он чувствовал, как нутро его наполнялось восторгом, даже кончики пальцев пронзительно заныли и во рту стало кисло от слюны. Такое случалось с ним, когда в молодости, бывало, хаживал с рогатиной на медведя, и так же пусто и холодно становилось в груди, и ладони потели на шероховатом держаке рогатины.
– И не знавал, – чувствуя нелепость своих слов, холодно сказал Сумароков и тут же подумал: «Ах, Господи, как глупо все. И угораздило же меня спьяну...» Острый кадык шевельнулся на тонкой шее, землемер сглотнул липкую слюну.
«Как птенчика бы его, ей-Богу, хряп... и все, – подумал Петра Афанасьич, заметив, как прокатился на шее у Сумарокова кадык. – Душить бы их всех...» Но невольная просительная улыбка родилась на опущенных губах. И иначе нельзя, тут не медведь, на рогатину не подымешь.
– Так и не признали? Может, с горя меня угораздило перемениться? От ты, а? Думал, зайду к Никите Северьяновичу, отгощу. У нас уж в Поморье так заведено, – льстиво балагурил мужик. По лицу Сумарокова он уже видел свой верх и даже втайне удивился тому, с какой легкостью все получилось. Но ловушку Петра Афанасьич захлопнуть не спешил, решил покуражиться: