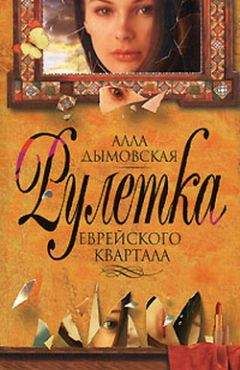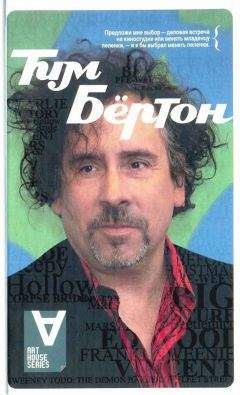– Это было бы смешно, – вдруг развеселилась Инга, представив себе подобную ситуацию.
– А я скажу. Хорошо, что тебе смешно. Значит, мы договорились. Детали – уже не твое дело. Все обойдется в двадцать тысяч. И это только для тебя.
– Пятнадцать. И это тоже только для тебя, – попыталась торговаться Инга. Она, наверное, была единственным человеком во всем Майами, который нарочно осмеливался возражать Святому Брокко. Но Инга даже не задумывалась об этом. И может, именно потому Сорвино позволял ей многое.
– Двадцать. Это последнее слово. Впрочем, могу опустить до девятнадцати девятисот. Уж так и быть, купи себе пару лишних трусиков, – пошутил Сорвино, и этим дал понять, что тема закрыта окончательно.
– Ладно, пусть двадцать. И ты заплати за выпивку, – тоже поддержала благоразумно шутку Инга. – Но только не тяни. Вдруг Менлиф и впрямь назначит торги.
Все вышло именно так, как и обещал Сорвино. И недели не прошло, как над телом новопреставленного утопленника Менлифа прочли «и когда пойду я долиной смертной тени». Только малышку Лорейн едва было не упекли в каталажку за занятие проституцией. Но после очень скоро выпустили под залог. Лорейн куда как понравились ее фотографии на первой странице многих бульварных газетенок, и говорили, будто бы добрую часть гонорара за работу малютка спустила на скупку чуть ли не половины их тиража. А Джо Реймар сразу же после похорон подписал для «Наташи» требуемое разрешение. Аренда на 99 лет, с правом строительства и последующей перепродажи. Все на круг обошлось фирме в три миллиона долларов под банковский кредит.
И лишь Костя ходил словно в воду опущенный. Будто это его, а не беднягу Менлифа искупали с летальным исходом, и вот он теперь – живой труп. Инге от этого было тяжко и не по себе. Хотя эти «трудности» с Костей выходили далеко не первыми в их отношениях и, как подозревала Инга, далеко не последними.
Когда Костик Левин, бывший опальный агент, еще только прилетел из Лос-Анджелеса на новое место и за новой жизнью, он тогда уже ожидал совсем иного. Костик наивно думал и полагал, что приехал непосредственно к Инге, как к любимой им девушке, которой и будет отныне служить защитой, опорой, и что научит ее и образумит, как далее жить честно. С такими-то деньжищами это вполне было возможным. Инцидент с продажей дома в Силверлейке Костя рассматривал как печальный эпизод, может и вправду вызванный только страхом за будущее и надеждой вчерашней эмигрантки твердым и окончательным образом обеспечить себя. А потом, конечно, Инга ничего подобного себе уже никогда не позволит, и даже ее станут непременно мучить угрызения совести. И они покаются вместе, дадут клятву не отступать от законов божьих и человеческих, и потом поженятся, и, может, скоро родят детей. А он, Костя, затеет легальный бизнес с недвижимостью, голова у него на плечах имеется и варит неплохо, а Инга каждый день станет встречать его на пороге их пряничного домика, и из кухни будет сладко пахнуть пирогами. И дети выбегут кричать: «Папа! Папа!» Примерно такую лубочную картинку и рисовал для себя Костик Левин еще в самолете и вполне верил в ее воплощение в реальном времени. Он ошибался настолько ужасно и катастрофически, во всем абсолютно, что не мог и представить себе всю степень собственного заблуждения.
Оттого игрушечный мир его вымысла и рассыпался так же легко, как картонный пейзаж, собранный из разноцветных пазлов. Инга совсем не шутила с ним в Лас-Вегасе. Она действительно искала себе знающего дела компаньона, но отнюдь не мужа, и не нуждалась ни в чьей опеке. Напротив, как только Костик узнал свою надуманную будущую жену поближе, так быстро и понял, что упертая твердость характера его любимой даст кому угодно тысячу очков вперед. Что у нее свои цели и планы, и она даже не собирается с ним делиться этими планами до конца. Будто стальной, мощный локомотив, который мчится без удержу вперед, допуская за собой лишь ведомые на привязи вагончики. Костя и стал таким вагончиком. Он работал подле и для своей любимой, он часто спал с ней в ее отличной квартире, ему даже иногда позволялось остаться на уикенд. Но на этом было все. Как только в первый раз он заикнулся просто пока о совместном проживании, то в ответ ему был дан такой пренебрежительный смех, что моментально Косте стало ясно – ничего подобного Инге от него не нужно. И это окончательно. Он пробовал еще дуться, его утешали, как маленького. И Костя от утешений чувствовал себя полным дураком. Но ничего не мог поделать, и некуда было ему деться. Ингина упрямая сила и полное отсутствие в ней морального внутреннего закона, как ни странно, еще сильнее приворожили к ней Костю честолюбивым желанием образумить синеокую красавицу. Теперь он, однако, ставил перед собой и дополнительную цель, и делал это вынужденно – хоть как-нибудь уберечь свою рискующую напропалую подругу если не от себя самой, то хотя бы от будущего одиночного заключения. Такое полное отсутствие страха и тормозов, какое он видел в Инге, поражало и одновременно угнетало его. Порой Костя очень сильно страдал. Но теперь речь шла о преднамеренном убийстве. Что могло быть хуже, Костик Левин просто не знал и не мог представить. Чего же легче, как сложить вместе свидание с Сорвино и непонятную, позорную гибель Менлифа, и как следствие немедленную выгоду для «Наташи». Он нисколько не сомневался в том, кто настоящий убийца, как и в том, что этого заблудшего убийцу он все равно любит очень сильно, пусть и не в силах оправдать. И Костя решил предпринять последнюю попытку достучаться до сердца той, к которой Бог определил его на муки и терзания. А если нет, если не удастся, то тогда он уйдет куда глаза глядят. Или нет, он тоже станет убийцей и застрелит сначала ее, потом себя. Или сначала ее, потом Сорвино, окаянного соблазнителя от Сатаны, а после уж и себя.
И на этом месте своих размышлений он понял уже, что начинается традиционный детский сад с водяными пушками и пластмассовыми кинжалами, что никого и никогда он не сможет лишить жизни, а тем более себя самого. И понял еще, что ехал-то он в рай, а угодил в прямо ему противоположную область мироздания, и остается только ему предпринять последнюю попытку, а дальше будет видно. Может, он еще сумеет донести до Инги вполне доступную мысль о том, что не только в той куче денег, которую она так жадно загребает обеими руками под себя, есть одно-единственное счастье.
Он столь тяжело и явно носил на себе намерение этого разговора, что уже и сама Инга почувствовала и угадала его решимость. И безумно раздражилась внутри. Ей будто мало хлопот, так еще Костя бродит рядом, как Банко, устрашающий Макбета, нет, чтобы сделать вид, словно ничего и не произошло. Да, собственно, что такого случилось? Да в России эти дела сплошь и рядом и косяком, в конце концов, мужчина он или хлюпик?! Пусть скажет спасибо, что она бьется за двоих, чтобы было место им под солнцем Майами. Нет, Костя, само собой, хороший. Умный, предан ей и влюблен до потери разумности суждений, если даже не видит до сих пор, с кем связался. Но вот только у него есть предел. Досюда он готов рисковать, а дальше ни-ни. А и рискнет, так потом замучает себя угрызениями. И хорошо бы, только себя. Вот уже и до нее добрался. Ах, убийство, ах, смертный грех! А убивать душу заживо, это не смертный грех? Вот поэтому ей, Инге, все можно. А Костя ничего не понимает, и не нужно ему понимать.
В вечер разговора Костя пришел с пустыми руками. Не потому, что хотел наказать или просигнализировать нечто, а от волнения забыл. И цветы, и вино, и замороженные королевские креветки, что так любила Инга, только сама не успевала покупать. Квартира, новая, просторная, с панорамой по одной стене, открывала великолепный ночной вид на город, но словно в то же время была не человеческим обиталищем, а только мертвой картинкой, которую злой волшебник перевел с листа в настоящее существование. Возможно, оттого, что в квартире ощущался минимум, почти запредельный, каких-то личных, дорогих для хозяйки вещей, отсутствие интимных пустяков, книжек или хотя бы глупых женских журналов или расписаний диет? Нет, ничего подобного не было. Разве только в одной из ванных комнат имелась зубная щетка и принадлежности ухода за внешностью. Даже кухня обычно была пустынна и холодна, как закрытый для санитарной уборки морг.
А когда они напились пустого чая (более ничего и не оказалось в доме, Инга предпочитала для трапез городские рестораны), Костя тут же и затеял свою попытку с разговором. С чистого поля, потому что аккуратно вывести Ингу на болезненную для него тему Косте не удалось. Как только он намекал, так тут же Инга и замыкалась от него, словно на амбарные ключи, не желала говорить. Пришлось кинуться с места в карьер. Он долго и путано излагал, как встретил миссис Рамирес и что подумал о ней, потом о решении следовать за ней и о причинах, по которым он захотел это сделать. И про пряничный домик, и про неродившихся детей, и о домашнем покое, и о том, как мог бы он дать Инге настоящее счастье. Без утопленников, сомнительных типов за спиной, вроде Святого Брокко, без утомительной гонки за капиталами – да и зачем, когда и так довольно денег.