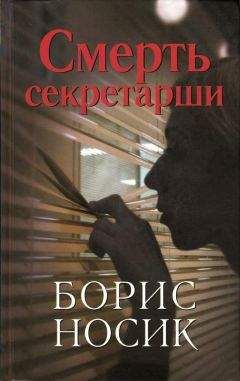И не то чтоб ей было плохо с Геной, вовсе нет, и даже в постели не так плохо, нельзя сказать, чтоб неприятно. Не было, конечно, никаких чрезмерных страстей, всякого там умирания, замирания, обмирания — это уж она все научилась изображать. Не для себя, а чтоб сделать приятное мужчинам, которых она чаще всего жалела — такие они все замученные, хвастливые и, в общем-то, честно говоря, жалкие. Научила ее этой невеликой хитрости тетя Шура, которая была великая охотница до мужчин, в свое, конечно, время, еще до второго инфаркта. Но чтоб так, по-настоящему, на самом деле — ну, было, может, один раз, недавно, совсем неожиданно и даже случайно — смешно вспомнить, и тоже, наверное, от жалости, такой человек странный, совсем нищий, святой человек…
И вот теперь, когда у Гены и Риточки все было как будто решено (правда, они никому еще не объявили об этом и не предприняли никаких хозяйственных мер), решение это внесло отчего-то в их души не успокоение, а смуту. Начать с того, что решение это определил в первую очередь ребенок, который должен был появиться на свет (не скоро еще, но все же в конце концов должен), однако именно ребенок и смущал сейчас больше всего Риту. Что ни говори, она жила до сих пор для себя, жила интеллигентной жизнью, в мире культуры и небольших, но многочисленных бытовых трудностей, которые так или иначе должны возникать при окладе в девяносто пять рублей ноль-ноль копеек. Как может на такие деньги выжить симпатичная девочка при столичной дороговизне и нынешних ценах, да еще быть при этом сносно одетой и хорошо выглядеть, развлекаться немножко, ездить хоть раз в месяц на такси — над этим, вероятно, никогда не ломали себе голову гордые экономисты, озабоченные посевами хлопка и народнохозяйственным планом… Если бы их спросили, как это может быть, то они, пожав плечами, сказали бы, наверно, что это «экономическое чудо» почище западногерманского, что это русское чудо, потому что при подсчете расходов эти девяносто пять таяли у самого истока: проездной — шесть, две пары колготок — шестнадцать, кофе — двадцать, пара сапог — сто двадцать, только обед на месяц — двадцать. А надо ведь еще и вечером есть, и утром, надо платить за квартиру, надевать что-то и выше пояса…
Да что с них взять, с чужих мужиков-экономистов, если над этой проблемой не задумывался и сам ее перспективный муж. Ни разу не спросил, почем нынче овес, откуда дровишки… Вот сейчас, когда Рита внесла с кухни поднос с яичницей и картошкой, он только потрепал ее по мягкой спине (у мужчин всегда одно на уме) и сказал:
— Я уже заждался. Садись скорей.
— Что ты читаешь? — спросила Риточка, накрывая на столик у дивана.
— Не знаю, взял тут с полки, мура какая-то, — беспечно сказал Гена. — Про военную прозу. Гляди: «Каждая строчка Пропахина налита кровью солдатского сердца».
— Это Колебакин, — сказала памятливая Рита, и Гена с удивлением взглянул на обложку:
— Точно… Колебакин. «Правда, добытая кровью». Ишь, тоже писатель. Сборник статей. Ба, и автограф.
— У меня тут почти все дареное, — беспечно сказала Рита, а Гена между тем прочел под портретом Колебакина, наряженного в жлобский галстук: «Дорогой помощнице и другу, даже более чем другу, в память о часах тяжелого вдохновенного труда и утешения сердца».
— Да-а-а… — сказал Гена.
— Ты же знаешь, что я этого не читаю, — сказала Рита. — Фантастика — другое дело. Уводит в мир. Для этого фантазию надо иметь. Ну ладно, клади книгу в сторону, читатель, присаживайся.
Риточка наморщила носик, засопела часто-часто и смешно, как маленький зверек, и Гена сразу поднялся с дивана: это было то самое смешное, трогательное выражение ее лица, которое ему удалось однажды поймать на фотографии, когда делал, еще в самый первый раз, серию ее портретов. (Один из них украшал потом выставку на 1-м ГПЗ «Семилетка и люди», он чуть было не получил приз на конкурсе, этот снимок, и получил бы уж точно, если б Гена сам не сболтнул по молодости, что это не чертежница и не расточница вовсе, а секретарша из редакции, — интересное дело, что ж секретарше не приходится вместе со всеми переживать семилетку?) Гена все собирался сделать и для себя на память отпечаток, да забывал, но в конце концов и нужды особой в этом не было, потому что он и так очень ясно в любой момент мог представить себе эту ее гримаску, которую они между собой условно назвали «бурундучок» (хотя оба сроду не видели бурундучка).
— Послезавтра главный будет сам принимать номер, — сказала Риточка. — Так что готовься. Готовь своих таджичек в золотом платье — хоть бы разок примерить такое.
— Привезу, — сказал Гена. — Это что же, мне придется за два дня все отшлепать? А я же туда снова хотел улетать в субботу…
От поворота ручки в изголовье свет в комнате становился тусклее, и покойный Дассен пел все доверительней, словно хотел задать тон любовному общению на всю последассенную эпоху, и Гена забывал под эту музыку о своих хлопотах и тревогах, ощущая себя покровителем и единственным на этой земле повелителем нежного хрупкого существа.
* * *
Шеф принимал номер. Для него это было нелегкое, но весьма значительное мероприятие: он давал урок своим сотрудникам на конкретных примерах, на ошибках, чувствуя себя при этом матерым волком журналистики и опытным литератором. Чего греха таить, год назад, придя в редакцию прямо из партконтроля, он еще чувствовал себя ни тем, ни другим. Человеком, знающим курс, линию, тенденцию, — да. Человеком, знающим жизнь, — да. Принципиальным, умным, опытным, идейным человеком, однако вовсе не профессионалом этих бумажных дел. Он и не заострял в ту пору внимания на профессионализме, мастерстве и худдостоинствах. Теперь-то уж он приобрел амбиции и все чаще вставлял в свою речь фразы вроде: «Так все-таки, друзья мои, не делается журналистика». Или: «Пора уже, товарищи, становиться профессионалами». Или: «Так все-таки не пишут, старик. Есть же какой-то уровень». Или того больше: «Литература должна учить». Или: «Не стреляет, дружок. Слово должно стрелять». И так далее — обо всем на свете: о стихах, о фотографиях, о романах, о книжной графике и верстке.
Конечно, это, с одной стороны, заслуживало всяческого восхищения, что человек в таком зрелом возрасте не гнушается входить в смежные профессии. С другой стороны, это было чревато осложнениями для всякого, кто хотел сберечь в сохранности свою собственную строку, свое авторское слово, свою фотографию или картинку. Ибо создавалась довольно опасная ситуация для авторов — когда шеф знает все. Знает все лучше, чем все, — на то он и шеф. Капитоныч утвердился в этой мысли сравнительно недавно, после немногих случаев попадания (среди тысячи честно забытых промахов) на таких же вот разборах, так что сотрудники еще не успели привыкнуть к новым сложностям, вытекающим из этой убежденности. Спорить с ним, впрочем, никто не хотел, потому что Капитоныч, судя по всему, сидел прочно, да и сам уходить, кажется, не собирался. Не собирались пока уходить и остальные сотрудники. Поэтому все поддакивали, надеясь, что реальных последствий вся эта шефова ахинея все-таки иметь не будет. Тем более никого не задевали глубокие соображения шефа по поводу фоторепортажа, которые он сегодня с таким жаром высказывал. Никто, кроме Гены, который был автором снимков и потратил на них целую неделю, тоскуя в грустном сибирском поселке строителей.
— Вот здесь у вас контровой снимок, — сказал шеф, обращаясь к Гене. — Отчего здесь контровой? Зачем, скажите мне, эти уловки? Снимайте впрямую. Телевиком. Или вот стена. Бревенчатая стена — это хорошо. Это дает фон. Биографию. Стена — это русское. Но зачем столько стены? И такая маленькая головка? Разве у нас человек не главное? Разве не он создатель всех материальных ценностей и нашего процветания? Одежда, вот здесь, — если бы вы изменили одежду, этот снимок мог бы пойти, никто бы вам ничего не сказал. Наш народ сегодня одет как никто в мире. Постарайтесь, вы можете, мы в юности справлялись и не с такими трудностями… Панорама вот здесь — хорошо. Но недостаточно широко. А что там, за домами? Мы хотим знать. Хотим выйти в большой мир. В целом, конечно, неплохо, но поработайте еще. Учтите все конкретные поправки и…
Все молчали. Кто читал, кто чиркал что-то свое, и казалось, что слушает один Гена. Выяснилось, впрочем, что слушает еще старик Болотин, тот самый, что подписывал свои фотографии «Семен Ефросиньин».
— Всем понятно? — сказал шеф. Он перевел дух и собирался уже объяснить Валевскому кое-что о поэзии, когда послышался вдруг скрипучий стариковский голос Болотина. Это было так неожиданно, что все подняли головы. Неожиданно было, во-первых, что вообще заговорил старик Болотин, который всю жизнь помалкивал (именно из-за того он и уцелел, наверное, при всех шефах, несмотря на очевидную сомнительность своего происхождения). Неожиданно было и то, что он заговорил, когда никто не спрашивал его мнения. Что он заговорил самовольно, а главное — заговорил своевольно.