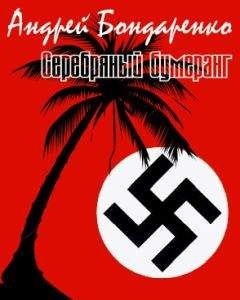К. тому же Конче Аваай не ходила в церковь и никогда не поднималась на холм Тупа-Рапе. Может, еще и поэтому ей не хотели верить.
6
Вернувшись из Чако, близнецы Гойбуру казнили Мелитона Исаси, и это чудовищное убийство воздавало ему сторицей за все злодеяния. Когда жители Итапе увидали обезображенный труп политического начальника, они, леденея от ужаса, стали ломать себе голову, почему близнецы так жестоко, по-звериному разделались с Мелитоном. Они не понимали, что покарав негодяя, близнецы одним ударом свели счеты и с соблазнителем их сестры, и с Христом Гаспара Моры, к которому с давних лет питали недоверие и злобу. Деревня еще не могла уразуметь, что толкнуло близнецов поступить именно так. Жителям было невдомек, зачем близнецам понадобилось, сняв искупителя, накрепко привязать вместо него к кресту оскопленный труп Мелитона Исаси. Казалось, провисев на кресте двадцать пять лет, Христос Гаспара Моры, омытый дождями и солнечным теплом, любовно овеянный ветром и свежим воздухом, полным реющих птиц, Христос, не знакомый с прогорклым, пропитанным ладаном церковным полумраком, вдруг за одну ночь превратился в политического начальника. И вот висит теперь, одетый в его сапоги и куртку, при пистолете, выкатил налитые кровью глаза, а над вздувшимся лицом уже витают зловещие тени стервятников.
Прибежал насмерть перепуганный священник. По его приказу несколько дней подряд кропили святой водой оскверненное место, творили заклинания и возносили молитвы. Под всхлипывания и слезы толпы, вымаливающей прощение у господа, Христа снова водворили на крест; вся эта церемония производила впечатление карикатуры на празднование страстной пятницы. Из Борхи отец Педроса привез более сотни плакальщиц, и теперь уже совсем нельзя было понять, то ли люди замаливали свою вину перед Христом Гаспара, то ли устраивали поминание политического начальника, который к тому времени уже покоился на кладбище.
Несколько дней спустя отец Педроса спросил женщин, нет ли среди них желающих бессменно охранять Христа на Голгофе. Денно и нощно нести стражу на холме Итапе вызвалась одна Мария Роса. Ее пустые глаза лучились жертвенным светом, словно все двадцать пять лет она только и ждала этого часа.
7
Мелитон Исаси был давно мертв. Но и несчастная Фелисита Гойбуру тоже была мертва, и никто не знал, где ее могила. Она умерла, отомщенная своими братьями, которые, провоевав три года в далекой пустыне, за единый миг превратились из героев в отъявленных убийц и теперь отбывали свой срок в асунсьонской тюрьме.
Была отомщена и Хуана Роса Вильяльба, частично и остальные жертвы — даже те, в гибели которых не был повинен Мелитон Исаси. Впрочем, для них эта месть не служила вознаграждением за страдания.
Кучуи жил у своей безумной бабки на холме Каровени, но когда она превратилась в неусыпного стража Христа, домом для мальчика стала деревня. Целыми днями он сонно слонялся по ней, словно вырвавшаяся на свободу птица, название которой заменяло ему имя. Уже тогда на груди у мальчика появились первые струпья белой проказы. Может, это была та же болезнь, что и у Гаспара Моры, а может, в его кожу впитались зола и пепел, потому что он много ползал на кухне в управлении. Так этот наполовину осиротевший ребенок, законный сын своего отца, стал воплощением всех незаконнорожденных детей, которых разбросал по деревне обуреваемый похотью Мелитон Исаси.
До того как вернулся в деревню отец, Кучуи беспечно разгуливал по Итапе, и в этом погруженном в спячку существе медленно зарождался будущий мужчина, который пока не хотел избавиться от дремы, чтобы не видеть того страшного сна, каким была и жизнь его деревни. Очевидно, это смутно понимали торговки лепешками и алохой на станции, потому что всегда припасали для Кучуи кусок лепешки, кружок заплесневелой колбасы или стакан освежающего питья. Наверное, они жалели мальчика, а может быть, чувствовали что-то вроде страха, стыда или угрызений совести. Во всяком случае, при виде Кучуи я испытывал именно эти чувства. Я зазывал его к себе и усаживал в кресло. Он испуганно противился, не понимая, конечно, что мною движут странная боязнь и стыд. Я приносил ему молоко, печенье, бананы и подолгу смотрел, как он уписывает за обе щеки эти лакомства. Но больше всего ему нравился мой пистолет. Я позволял ему играть с ним и даже показал, как с ним обращаться. Вытащив магазин, я учил мальчика целиться из пистолета и спускать курок.
А теперь я видел, как он трусит рядом со своим отцом, направляющимся в кабачок, и путается под ногами громко разговаривающих мужчин.
8
На грязном обшарпанном столе, за который мы уселись кружком вместе с Крисанто, лежали три креста. Они были без надписей — маленькие, неказистые, покрытые ржавчиной.
— Крест за Бокерон… Крест за Чако… Крест за победу… — считал Тани Лопес, трогая каждый из них ногтем мизинца. — Это тебе на память, Хоко!
— Да, — словно эхо отозвался Крисанто, отодвигая руку Тани.
— Лучше хоть что-нибудь, чем совсем ничего, сказал один тип, слизывая с котелка жир, — сострил Кабраль.
— Но как получилось, что тебе дали ордена? — спросил немного лукаво Иларион Бенитес. — Ведь для рядового состава и сержантов ни медалей, ни крестов не полагается. Во всяком случае, в наше время. Выдают только бумажку, где указаны все твои заслуги, и ее прилагают к солдатской книжке. Так ведь, лейтенант? — бросил он мне.
Я смолчал, так как думал о другом.
— А вот мне дали, — помедлив, ответил Крисанто, нимало не смутившись. И потом скромно добавил: — Думаю, я заслужил.
— А когда это было?
— За несколько дней до того, как закончили расквартировывать демобилизованных. Нас уже было не так много. Выстроили всех и вызвали меня. Я сделал три шага вперед, заиграл рожок, забил барабан, и сам министр обороны вручил мне кресты.
— Güepa![86] Сам министр обороны — ни больше, ни меньше!
— Он мне повесил кресты на грудь, обнял меня и сказал: «От имени благодарного отечества!» И все мы закричали: «Да здравствует родина!» Министр ушел, а за ним и его помощники.
— Сам министр обороны! — повторил Корасон. — Нет, подумать только! Эго тебе не хвост собачий! А мы тут сидим, как та старая ведьма, что сторожит Христа на холме.
Послышались сдержанные смешки.
Иларион прищурился и пристально посмотрел на Крисанто:
— А не думаешь ли ты… — сказал он, но тот прервал его и с непоколебимой уверенностью заявил:
— Чему положено быть, о том нечего раздумывать. Подставляй грудь — вот и весь сказ.
— Хоть один раз поступили по справедливости, — примирительно сказал Корасон Кабраль. — Все-таки не обделили сержанта Крисанто Вильяльбу при дележе орденов!
— Да, — сказал тот, — вот они…
Он взял кувшин, в котором оставалось немного каньи. Все подумали, что он хочет выпить. Но Крисанто наклонил кувшин и осторожно налил по одной капле на каждый крест. Рука у него дрожала. Потом очень спокойно и серьезно протер их большим пальцем, смочил слюной и подул. Шаткий стол заходил ходуном. Из выцветшего обшлага вынырнул кожаный ремешок, которым Крисанто на фронте связывал ручные гранаты. Ремешок был черный, покрытый слоем грязи.
Ордена лежали на столе, поблескивая темной полированной поверхностью. Потом он завернул их в кусок смятой пожелтевшей газеты, каждый в отдельности, чтобы не ударялись друг о друга. Взял вещевой мешок на колени и спрятал пакет. Я снова услышал приглушенное тихое звяканье и мельком заметил в мешке какие-то серые предметы, похожие на стручки сушеного перца. Вот и все его нехитрые пожитки. Я думал многое сказать ему, но только спросил:
— Ты рад, что вернулся, Крисанто?
Он помолчал, словно пытался вникнуть в вопрос. Его губы несколько раз беззвучно шевельнулись, потом он произнес:
— Не хотел…
— Чего не хотел? Демобилизовываться?
— Да, не хотел.
— Но ведь уже прошел год, как война кончилась, Хоко.
— Это я и сам понимаю, — ответил Крисанто с непритворной грустью в голосе. — Кончилась наша славная война!
Мы переглянулись, не зная, что на это сказать. Но взрыва смеха, которого можно было бы ожидать в ответ на замечание Крисанто, на сей раз не последовало. Мы никак не предполагали, что он скажет такую фразу. Но он произнес ее тоном человека, смирившегося с неизбежностью того, что война кончилась, при этом говорил вполне серьезно, не шутил, не дурачился и не кривил душой.
— Скажет тоже — славная! — выразил всеобщее удивление Корасон. — Я думал, что так говорят только интендантские крысы из Пуэрто-Касадо. Для них она действительно была славной. Для них и для всех, кто отсиживался в тылу. Но не для солдата, который целых три года рисковал своей шкурой и отдувался за других в Чако. Почему ты так сказал, Хоко? Наше счастье, что кончилась эта проклятая бойня.