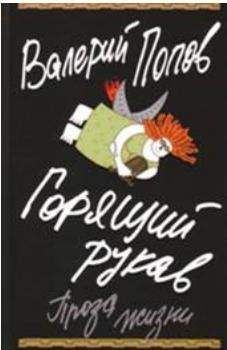Почти каждый теплый вечер проходил тут, гуляя, Владимир Соломонович
Бахтин. Веселые, бесшабашные глаза за толстыми стеклами, пухлые губы и картавая, вроде кряканья утки, речь – всегда, впрочем, добродушная. Он был из тех, кто не терпел скуки, считал ее недопустимой виной. Распевал хулиганские песни, собиранию которых посвятил жизнь. Впрочем, не только хулиганских, его толстый том
"Самиздат" включал в себя все, что летало когда-то в нашем воздухе и без него улетело бы навсегда. "Романтические песни" о красавицах и пиратах, студенческие дореволюционные, наши дворовые и лестничные, и стихи несостоявшихся гениев, так и не выпустивших книг, – все он разыскал, собрал, пробил в печать. Теперь за этой книгой охотился весь мир, а Соломоныч, как мы все его звали, был словно ни при чем – шутил, куролесил, весело дружил со всеми, кто жил на литфондовских дачах вокруг.
Теперь иногда говорят: как же мог жить Союз писателей, это казенное советское учреждение, да еще привлекать молодежь? Мог. Благодаря таким, как он. Его скрипучий голос и смех не смолкали в его каморке в конце тусклого коридора. Помню, еще давно, когда меня стало вдруг задевать то, что прежде не задевало: почему это многих моих ровесников уговаривают поехать на съезд писателей, а мне даже не предлагают, я пришел с этим именно к нему, хотя он был каким-то вторым референтом, далеко не главным. Но говорить, как я заранее чувствовал, можно лишь с ним. Он посмотрел на меня, по обычаю склонив голову набок, и тут же бодро сказал:
– Не буду вам рассказывать, чтобы вас не пугать, как становятся делегатами съезда. Но, кроме делегатов, есть еще места для гостей, и я вас пошлю!
И я оказался в Колонном зале, в первый и последний раз, нагляделся на маршалов литературы, сонно и важно восседающих в президиуме, и желание там присутствовать оставило меня навсегда.
– Ну как вы – довольны, Валерий? – насмешливо спросил он меня, когда я вернулся.
– Доволен. Навеки! – бодро ответил я.
– Ну, я рад, что вы все поняли! – улыбнулся он.
А еще спрашивают, как мы тогда жили? Нормально – вот с такими людьми.
Но особенно я его полюбил, когда мы оказались рядом в двух полуразрушенных будках-дачах. С утра неповторимый его голос скрипел то там, то тут: со всеми он был дружен, всеми любим. Как же мы жили тогда, в эпоху непримиримых противоречий? А вот так.
Самым сердечным образом он дружил с людьми, которые были между собой непримиримыми врагами – и добрыми были лишь с ним. И он их обоих любил, искренне и по заслугам. По-разному можно на человека смотреть.
Его любил даже Глеб Горышин в самой своей мрачной поре, видящий вокруг лишь гибель Руси и интриги иноверцев. Но когда он заговаривал о Бахтине, лицо его расцветало (будто Соломоныч был не еврей):
– Прекрасно Володя живет. Веселится, и жена его веселится. Любят всех – и при этом еще и друг друга!
И Глеб, довольный, тряс головой: вот бывает же такое! И ему Бахтин скрасил жизнь.
И Гранин, весьма надменно и привередливо выбирающий спутников для прогулок (приглашенные им могли долго ждать у крыльца, пока он выйдет), не считал зазорным заходить за Бахтиным сам. Можно чваниться, капризничать, водиться лишь с нужными людьми… но все это, холодное, таяло при появлении Владимира Соломоныча. В поле простодушной его доброты было стыдно быть злым, да и невозможно: не к чему было приложить зло. С ним все люди были прелестны и, чуя это, стремились к нему.
И вот однажды они шли в теплых закатных лучах, беседуя, и до меня долетел лишь обрывок бахтинской фразы, от которой вечер сразу заледенел:
– …А первую опухоль у себя под мышкой нащупал я сам.
Потом он ездил в Песочный облучаться и, возвращаясь вечером, проходя у литфондовских дач, все равно беседовал со всеми, словно вернулся с прогулки.
Помню – моя жена, больная и нервная в тот год, вошла улыбаясь:
– Сейчас встретила Владимира Соломоновича у магазина. Всегда мы с ним перешучиваемся. Я ему говорю: "Кто это здесь, в красной рубашоночке?" Он улыбается: "Хорошенький такой?"
То было его последнее лето, и он прекрасно это знал.
Но и оно кончилось. Мы с ним оказались последними в наших "будках", под проливным дождем. Мы с отцом, нахохлясь, сидели за столом в куртках и кепках. Вдруг в запотевшее окошко постучали. Откуда гость в почти уже пустынном поселке?
Под окном стоял Владимир Соломоныч с бутылкой водки и какими-то тетрадками.
– Грустите? Вот пришел к вам!
Улыбка у него была, как маленький полумесяц, и чуть косая.
Он читал из своей тетрадки совсем новые, неприличные присказки, и мы хохотали.
И кто-то еще удивляется: а как мы живем, со столь низкими заработками? Да вот так и живем, благодаря людям.
На следующее лето улыбка его осталась лишь на большой выцветшей фотографии на его террасе. Рядом на столе лежали несколько старых букетов, слегка загнивающих. И запах этот пронзал душу: так пахнет смерть.
В ту пору там был единственный на весь участок телефон – и под насмешливым взглядом Соломоныча нелегко было "лепить туфту".
Каждый летний вечер, мелькая между рейками, медленно ехала вдоль ограды зеленая "Таврия". У калитки она останавливалась, и некоторое время никто из нее не выходил. Потом вылезал, разгибался и показывался во всей красе в ярком спортивном костюме, привезенном из плавания, Ленька Семенов-Спасский. Вот сейчас вижу, как он, чуть сутулясь, разгоняя шикарными кроссовками сосновые шишки, усыпавшие землю, проходит по диагонали двор. Подходит к крыльцу, топчет подошвами, сбивая иголки, и входит на террасу.
Самая большая загадка – почему больше нельзя увидеть его? Что он плохого сделал? Он делал только хорошее, причем там, где любой другой уже бессилен. Свое лицо, сплошь покрытое веснушками, он подносил близко к собеседнику, как любой близорукий. И взгляд его сквозь толстые окуляры был пристален и суров.
– Попов! У тебя кофе есть? Нонна! А сигареты?
Его добрая Люда, убиваясь, отпускала его из Дома творчества, где они жили летом, зная, что он нахлещется кофе и накурится (это после инфаркта- то!), но понимала, что на месте его все равно не удержать.
Некоторое время он прихлебывал кофе, смолил сигаретой, уставясь в какую-то точку, думая о своем. Потом поворачивался и, в упор глянув, произносил сипло и резко что- нибудь вроде:
– Попов! Прочел твою последнюю книгу. – Волнующая пауза. Несколько долгих затяжек. – Не понравилась! Предыдущая была лучше.
После этого он опять погружался в молчание, потом поворачивался к моей жене:
– Ладно. Пошли, я тебя посмотрю!
Они удалялись в комнату, и было несколько довольно тревожных минут.
Он выходил первый, молча закуривал, смотрел в сторону. Потом говорил, после того, как выходила Нонна:
– Ну что?.. Живот мягкий. Новых затвердений нет. Молодец.
Кто молодец – она или я, что держу ее в нужном режиме? Не уточнял.
Это он называл "обходом клиентов". Только на территории литфондовских дач, где стояло всего шесть домиков, у него было пять клиентов, и это в одно время! А скольких других он вытащил из ямы, в которую упал потом сам!
Он слушал моего отца:
– Хм. Странно.
– Что странно? – замирая, спрашивал я.
– Совсем нет шумов!
– Это плохо?
– Хорошо. Удивительно, как зажило после инфаркта!
Потом он допивал холодный кофе и резко вставал:
– Ну все. Пойду зайду к моему любимому Боре Орлову.
И уходил. Боря Орлов и я – мы были руководителями двух оппозиционных писательских организаций, но после меня Семенов-Спасский, как правило, шел к нему. Орлов – человек бурный, начиная говорить, быстро заводится, переходит к нападению. Что так спаяло их? Что оба они были моряки, всю жизнь проплавали – Борис подводником, Леня морским врачом? Став крупным онкологом, стоя у врат смерти, видя пропасть, возле которой мы хорохоримся, он любил, бедных, всех нас.
Он нес в себе и другую скорбь. Он был хорошим писателем. Но надменная тусовка, заменившая ныне литературу и видящая только самое себя, не желает больше никого знать. Литература делается по-разному.
Но цена ее сразу видна – и тут никого не обманешь. Книги
Семенова-Спасского сделаны из жизни, и жизнью за них заплачено. И это не повод для жалоб. Так именно и должно быть. А ведь он мог бы после школы спортсменом стать. И сейчас пылились бы на шкафу какие-нибудь кубки, нужные теперь, в лучшем случае, только ему самому. Семенов-Спасский стал врачом. И как судовой врач, всем необходимый и всеми любимый член экипажа, побывал чуть не во всех странах мира. Редко кому, а тем более из писателей-профессионалов, прикованных к столу, удается такое. Как приятно было взять его книжку "Записки судового врача" и плыть вместе с ним и его веселыми и надежными друзьями-моряками, видеть дальние страны и наблюдать их удивительную жизнь. В книге его – вся планета: и Чукотка, и Африка, и Антарктида. И он сумел показать нам все: безграничность и великолепие мира, ярость стихий – и не уступающую им отвагу, оптимизм и практическую, житейскую ухватку наших людей, что и в