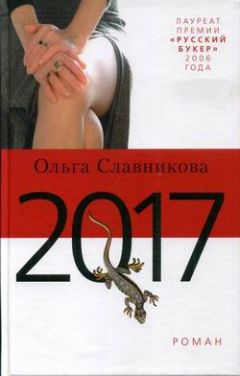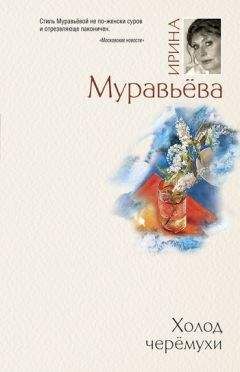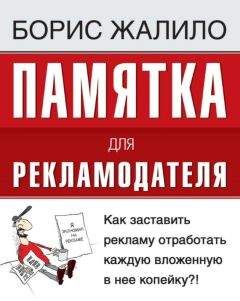– Если я не ослышался, мировое господство позитивности отменяет патриотизм, – меланхолически произнес депутат Саллиулин, поднимая круглые брови как можно выше на тыквенную лысину. – Вы очень красиво говорите, уважаемая, но противоречите сами себе.
– Ну, мы у себя патриотизм не отменяли, – вполголоса, но внятно проговорил Гречихин. – На местном уровне патриотизм вещь необходимая. В этом отношении…
– Да какхая тут патриотичность! – вдруг перебил вице-премьера писатель Семянников, у которого вдруг стала как-то отваливаться длинная нижняя челюсть. – Гхоспожу Крылову послушать, так у нас ничего и нет, кроме ее проекта! А Рифейский нарходный хор? А наша филармохния? Дипломанты международных кхонкурсов! Эти в тхогах – кто они такие?
Присутствующие поморщились. Пока Тамара говорила патриотическую речь, ликуя голосом и празднично играя искристыми глазищами, настроение общества понизилось еще на несколько градусов. Господа и так уже добрых два часа ощущали себя собранием мертвецов, коллективом кладбища, и каждый обособлялся, делая вид, что он за этим столом случайный человек. Теперь им вдобавок предложили послужить общественному благу – не только деньгами (судя по всему, немалыми, хотя Крылов не знал, какими именно, потому что в его комплекте документов вместо сметы и договора лежал готовый, весь парчовый от тиснений и впечатанных нитей, паевой сертификат), но буквально физически. Их тела, превращенные за их же счет в какие-то страшные и вечные «минеральные агрегаты», должны были, по проекту госпожи Крыловой, лечь в фундамент чего-то общего – стать полезным для сограждан веществом. Это с гротескной буквальностью означало «отдать всего себя» – что было в высшей степени несвойственно представителям элиты, регулярно говорившим подобные фразы в микрофоны, тем спонсируя нечто весьма от себя далекое, а именно идеалы. С идеалов и того было довольно – ведь иные слои рифейского общества даже и не обращались к ним, думать забыли об их существовании. Заскорузлые работяги с тощими красными шеями, словно натертыми перцем, так называемая интеллигенция в плащиках, вечно застегнутая не на ту пуговицу, гастарбайтеры всех мастей, живущие по подвалам в норах из землистого тряпья, готовящие себе на спиртовках густую сургучную еду, – все они заботились только о насущном куске, только о нем и говорили, жизнь их была опутана мелочными расчетами, омрачена недоброй подозрительностью. На этом неблагородном фоне элита, по крайней мере, не уставала озвучивать тексты вроде: «Мы обязаны заботиться о стариках и молодежи» или: «Я отдам все силы, чтобы мои земляки жили достойно». Таким образом, идеалы сохранялись хотя бы как предмет для разговора, хотя бы как слова, и на предвыборных листовках кандидаты, стараниями высокооплачиваемых имиджмейкеров, действительно походили на людей, которые способны все это осуществить. Элита регулярно жертвовала обществу ту тонкую сущность, тот драгоценный покров, который буквально снимает с человека фото– и телекамера; многие политики после съемок ощущали усталость, сосущую пустоту кровеносных сосудов, мокрую тяжесть мозга, полоскавшегося в черепе, будто ком белья в барабане стиральной машины, – и был известен случай, когда депутат Саллиулин, вышедший на постерах в виде сияющего будды, в результате заболел экземой, чьи пятна напоминали присохшие к коже старые газеты.
Но одно дело отдавать слова и образы, другое – самую плоть, которой, по замыслу авторов «Купола», предстояло превратиться в стройматериал для местного патриотизма. Сейчас многие из сидевших над холодным кофе были только телами, в которых мерзла кровь и говорили тихими голосами старые болезни. Каждый был у себя один, каждый слишком дорого сам себе обходился: если просуммировать затраты на медицину, отдых, фитнесы, профессиональную косметику, то любой из присутствующих, за исключением Семянникова и Крылова, стоил больше, чем его золотая статуя в натуральную величину.
Это были очень дорогие, очень имплантированные тела, пусть несовершенные от природы (та же Петрова была прокорректированная горбунья, десять лет назад ее умная голова росла на теле, будто опенок на пне), но ухоженные и умащенные: даже жир на них лежал красивыми складками, а в коже, в зависимости от возраста, было от десяти до ста процентов шелка. Жертвовать все это – в сумме не меньше центнера элитной плоти – представлялось абсурдом.
– Кгхм! Однако гроза… – заметил генерал Добронравов, щурясь в потемневшее окно.
За окном беззвучно бушевали массы воздуха, выше тополей летели, кувыркаясь и мелькая, какие-то картонные коробки, припаркованные автомобили, мутно мигая сигнализацией, застилались мусорным прахом, волочились, сцепившись, точно в драке, пластиковые стулья. Все белое сделалось свинцовым. Сгорбленные прохожие боролись с неосмотрительно раскрытыми зонтами, которым ветер обламывал спицы с такой же легкостью, с какой обрывают лапы насекомым; звукоизоляция не справлялась с раскатами грома, который слышался сидящим в офисе будто звук гигантского зевка. Вдруг на минуту все затихло, полосатый тент, сорванный с какого-то кафе, с необыкновенной нежностью опустился на недавно восстановленную статую Якова Свердлова, укутав революционера подобием шали, и в наступившей резкой отчетливости было буквально видно, как падают первые капли, похожие в уличной пыли на раздавленные виноградины. Тут же, налетев стеной, ударил ливень. Все поплыло сверху вниз в потоках густой расплющенной воды; контуры зданий исчезли, остались только краски, и казалось, будто из города прямо на окно Тамариного офиса выдавливают сок.
В конференц-зале еще добавили света. Однако лампы выглядели какими-то маленькими и не придавали уюта холодному помещению с погасшим экраном, похожим на кусок обледенелого асфальта. Под уставшими задами элиты сдобно похрустывали кожаные кресла.
– Я бы все же попросил уважаемую хозяйку вернуться к финансовым вопросам. – Саков, язвительный, румяный, равнодушный к явлениям природы, не торопясь спустил в карман серебряную плитку персонального компьютера, с которым до того общался долго и любовно, как девица с косметическим набором. И действительно, пригожее лицо министра посвежело, яркие губы цвета семги блестели, точно тронутые увлажняющей помадой. – Вы, значит, предполагаете сделать наши деньги вечными? То есть в том же смысле вечными, как вечно место, куда мы все со временем попадем?
– Но существует же Нобелевская премия, – терпеливо произнесла Тамара, из последних сил держа себя в пределах вежливости. – Цифры обоснованы, и мы готовы предоставить вам…
– Да бросьте вы, девушка! – сварливо перебил хозяйку юный министр, бывший моложе Тамары как минимум на десять лет. – Что вы нам тут моете мозги? Вы хоть понимаете, что такое в натуре деньги? Деньги – жидкость. Учили в школе физику? Вода принимает форму сосуда. А разбил кувшин – воды не собрать! Вечность! Не знаю, из чего она сделана, но деньги точно из другого материала. Где вы видели вечный банк? Хоть один? Вон, в Промбанке этом поллитровом форму пошили персоналу, зеленую с кантиком. Ихние бабы будут донашивать ихние юбки, когда от банка мокрого места не останется. И не вам, дражайшая Тамара Вацлавна, изображать, будто не знаете, как иногда и кое-где испаряется кредит. Да-да, не вам!
– Что вы имеете в виду? – лицо Тамары вспыхнуло так, что на щеках сделался заметен легчайший фруктовый пушок.
Около нее на столе белело несколько комочков измятой и рваной бумаги, очень маленьких и плотных. Зная ее, Крылов предполагал, что на ее дрожащих стиснутых коленях, на шелковой розовой юбке, трясется еще немало таких несчастных комочков, и Тамара боится, как бы все это не просыпалось на пол. От сердитого министра, от его драгоценного тела, наполнявшего белую рубашку, будто молоко, налитое в пакет, исходил тяжелый, близкий дух парфюма и сырого самцового волоса – злобный запах кабана, готового сожрать и нежную Тамару, и ее любимый «Гранит». Крылов с трудом удерживался, чтобы, сидя рядом, не врезать Сакову в сочное ухо. В эту минуту он остро жалел о разводе, отменившем его мужское право оградить Тамару перед всем этим обществом хотя бы от хамства, если не получается вмешаться в большие финансовые процессы. Словно уловив его нехорошие мысли, Саков обернулся и посмотрел на соседа: это был не взгляд, а заморозка, обработка парализующей мутью, живо напомнившей Крылову одноклассника Леху Терентьева и его приятелей с глазами как плевки, что оставили ему на память о детстве пару незагорающих шрамов и сотрясение мозга. Тут же министр опомнился и одарил Крылова гнусной улыбкой, словно развернул подтаявшую конфету.
– Да что вы, уважаемая, так волнуетесь, все мы грешны, никто не ангел с крыльями, – произнес он пренебрежительно в сторону Тамары. – Я всего лишь хочу обрисовать перспективу затеянной вами богадельни. Да, богадельни, уважаемые господа! Ибо взносы наши, как вы понимаете, уйдут в песок. Дай бог, чтобы это случилось при нашей активной жизни, дабы мы успели перелечь на другое место. Но очень даже может быть, что наша общая Хеопсова пирамида нас дождется. И вот тогда остатки средств на наше содержание утекут обязательно. Мы станем нищими на иждивении государства. Такими же точно, как те, что ползают по метрополитену, только минеральными. А какая, на хрен, разница? Это будем мы, мы, пощупайте себя! Дом минеральных престарелых в статусе памятника архитектуры! Какой-нибудь благотворительный фонд с очкастой молью во главе будет оплачивать нам ремонт и электричество. Или отправят нас, грешных, на заработки в качестве научных экспонатов, как вот Ульянов-Ленин гастролирует. Поедем в холодильниках в Европу, будем скалиться из-под стекла на тамошних белобрысых гусынь и ночью им сниться! Вы, кстати, в курсе, что на Ленина в Индии напала плесень? Ученые не могут справиться, и лежит наш Ильич, будто сыр Блю Кастелло, с бородой как лебеда. А ведь его коммунисты любят, памятники его везде обратно ставят. Кто позаботится о нас? Я вам скажу: никто. Детки наши в лучшем случае будут судиться с «Гранитом» или с тем, что от него останется. Вы этого хотите? Лично я – против! Сегодня ехал сюда, полез ко мне на светофоре мужик, весь в язвах, словно торт ему в морду бросили, с каким-то жмыхом вместо глаза и с балалайкой в лапе. Мол, подай копеечку, сыграю и спляшу! А у самого вместо ноги какая-то кочерга! Я подумал – не дай бог!