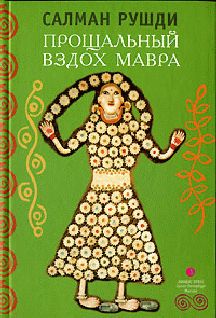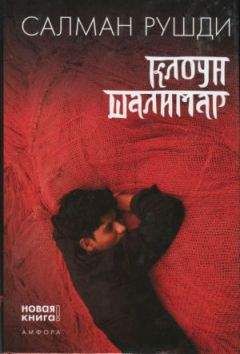– Знаешь, а мы довольно близки стали, – изумила меня Майна новым признанием, в котором детскость странно соединилась с вызовом. – Наконец можно с кем-то устроиться в уютном гнездышке и протрепаться ночь напролет -бутылка рома, курева пара пачек, что еще надо. От сестричек ведь всегда прок был нулевой.
Что это еще за ночи? Когда? В конуре, где жила Майна, даже лишний стул мудрено было поставить, не то что матрас положить; как, интересно, они там устраивались?
– Ты, я слыхала, по ней слюнки пускаешь, – прозвучал из трубки сестрин голос, и то ли это была сверхчуткость любви, то ли меня просто хотели предостеречь: – Братишка, позволь дать тебе совет: не надейся, у тебя нет никаких шансов. Поищи, петушок, другую. Эта предпочитает курочек.
Я не знал, что думать по поводу этих звонков, тем более что мои звонки Уме в Бароду оставались без ответа. На съемках рекламного телеролика для фирмы «Бэби Софто», когда рядом со мной гукали сразу семь щедро присыпанных тальком младенцев, я был настолько погружен в мои внутренние борения, что не смог исполнить порученную мне простейшую задачу, а именно: проследить с помощью секундомера, чтобы мощные «солнечные лампы» не светили на детей дольше одной минуты из каждых пяти, – и был выведен из забытья только руганью операторов, визгом матерей и воплями малышей, начавших поджариваться и покрываться волдырями. Полный стыда и смущения, я бросился вон из студии и увидел Уму, сидящую на крылечке и поджидающую меня.
– Пойдем поедим досы [101], яар, – сказала она. – Я с голоду умираю.
И, конечно же, за едой она дала всему совершенно разумное объяснение.
– Я же хотела тебя узнать, – говорила она с глазами, полными слез. – Поразить хотела тем, как я стараюсь все выведать. Приблизиться хотела к твоим родичам – стать им как своя рубашка или даже ближе. Ну, так мотай на ус, что у нашей бедненькой Минни от религии крыша поехала: я по дружбе ее спросила о том, о сем, так она, святенькая, все поняла по-своему. Мне, значит, прямой путь в монашки! Чушь собачья. А насчет дьявола, так это я пошутила просто. Я хотела сказать, если Минни за божью команду, то за кого тогда мы с тобой и все вообще нормальные люди – выходит, за дьявола?
И все время мое лицо покоилось в ее ладонях, она гладила мне руки, как в нашу первую встречу; такую любовь излучало ее лицо, такую боль из-за моих сомнений в ней…
– А Майна? – упорствовал я, чувствуя себя чудовищем из-за того, что допрашиваю такое любящее, такое преданное создание.
– Ну была, была я у нее. Чтоб ей угодить, пришла на демонстрацию. И пела – почему не петь, если есть голос? Что из этого?
– А уютное гнездышко?
– О Господи! УЖ если ты, несмышленыш, хочешь знать, кто действительно дама для дамского употребления, то гляди не на меня, а на свою твердокаменную сестрицу. Переночевать в одной постели – это не значит ровным счетом ничего, в колледже девушки сплошь и рядом так спят. Но уютное гнездышко – это, прости за откровенность, сексуальная греза твоей Филомины. Я вообще-то очень зла. Пытаешься подружиться, так тебя объявляют святошей и лгуньей, плюс ко всему я, оказывается, твою сестру лишила невинности. Да что же вы за люди такие? Как ты не видишь, что я ради любви все делала?
Крупные слезы звучно шлепались на ее пустую тарелку: душевная боль не испортила ей аппетита.
– Не надо, пожалуйста, не надо, – виновато бормотал я. -Я никогда… никогда больше…
Ее улыбка, воссиявшая сквозь слезы, была такой яркой, что мне представилось, будто вот-вот я увижу радугу.
– Может быть, пришло время, – прошептала она, – доказать тебе, что я гетеросексуальна на все сто.
x x x
И еще ее видели с самим Авраамом Зогойби: она уплетала большие сандвичи у бортика бассейна в клубе «Уиллингдон», а потом вежливо проиграла старику партию в гольф.
– Она, эта Ума твоя, была настоящее чудо, – говорил он мне годы спустя в своем поднебесном раю, возведенном И. М. Пеи. – Такая умница, такое оригинальное мышление, да еще эти пытливые глаза – не глаза, а бассейны. Ничего подобного не видел с тех самых пор, как в первый раз посмотрел на твою мать. Уму непостижимо, сколько я ей всего наболтал! Моим собственным детям ведь было наплевать – вот тебе, например, единственному сыну! – а старику надо перед кем-то выговориться. Я бы ее тут же на работу взял, но она сказала – искусство важнее всего. А сиськи -боже ты мой! Каждая с твою голову. – Он неприятно хихикнул, после чего небрежно извинился, не потрудившись придать своему тону хоть малую толику искренности. – Сказать по правде, сынок, женщины всю жизнь были моей слабостью. – Вдруг на его лицо набежала туча. – Мы с тобой потеряли твою милую мамочку, потому что оба заглядывались на других, – пробормотал он.
Банковские аферы глобального масштаба, биржевые операции на ультрамогамбическом уровне, многомиллиардные сделки по оружию, тайная торговля ядерными технологиями с хищением информации из компьютеров и мальдивскими Матами Хари, нелегальный вывоз антиквариата вплоть до символа страны, до самого четырехголового Сарнатхского льва… что из этого «теневого» мира, что из своих грандиозных достижений открыл мой отец Уме Сарасвати? Что, например, он рассказал ей об определенных экспортных сделках, касающихся белого порошка от фирмы «Бэби Софто»? В ответ на мой вопрос он только покачал головой. – Не так много, думаю. Не знаю. Может, все. Я ведь, кажется, разговариваю во сне.
x x x
Но я забегаю вперед. Ума поведала мне о партии в гольф с моим отцом, высоко отозвавшись о его ударе – «В его возрасте, и никакой, совершенно никакой дрожи в руках!» -и о внимании, проявленном им к девушке из провинции. Мы стали встречаться в скромных гостиничных номерах в Колабе или у пляжа Джуху (пользоваться шикарными пятизвездочными заведениями было рискованно – слишком много там было видеоглаз и аудиоушей). Но больше всего мы любили «номера для отдыха» при вокзале Виктории и Центральном вокзале; именно в этих прохладных, чистых, затемненных, анонимных комнатах с высокими потолками началось мое путешествие по раю и аду.
– Поезда, – сказала однажды Ума Сарасвати. – Все эти поршни, сцепки. Сразу тянет на любовь, правда?
Как мне рассказать о наших соитиях? Даже сейчас, после всего, что было, вспоминаю и содрогаюсь от острого томления по утраченному. Помню эту нежность, эту внезапную свободу, это ощущение откровения; будто вдруг плоть распахнет в тебе некую дверь, и через нее хлынет нежданное пятое измерение – целая вселенная с ее планетными кольцами, с ее хвостатыми кометами. С вихревыми галактиками. Со взрывами солнц. Но превыше всяких слов, превыше всякого изъяснения – чистая телесность, скользящие руки, напряженные ягодицы, выгнутые спины, взлеты и опадания, нечто не имеющее смысла вне себя и придающее смысл всему, краткое звериное делание, ради которого на все – на все что угодно – можно было пойти. Я не могу представить себе – нет, даже сейчас мне не хватает силы воображения, -что такая страсть, такая глубина могла быть поддельной. Не могу поверить, что она лгала мне тогда, в ту минуту, говоря о лязганье поездов. Нет, не верю; да, верю; не верю; верю; нет; нет; да.
Была некая смущавшая меня подробность. Однажды Ума, моя Ума, когда уже близился Эверест нашего наслаждения, сияющий пик нашего восторга, прошептала мне на ухо, что одна вещь ее печалит.
– Твоей мамочкой я восхищаюсь; а она, она совсем меня не любит.
Задыхаясь, пребывая совсем в иных мирах, я попытался ее разуверить: «Любит, что ты». Но Ума – вся в поту, порывисто дыша, судорожно толкаясь своим телом в мое, – повторила то же самое.
– Нет, милый мой мальчик. Не любит. Билькуль – совершенно.
Должен признать, что в ту минуту мне было не до выяснений. Грубость сама собой слетела с моего языка: " Ну, так вставите тогда ей ". – «Что ты сказал?» – " Я сказал, вставить ей. Мамаше моей, по рукоятку. О… " Она оставила эту тему, перейдя к более насущному. Ее губы зашептали мне о другом: «Ты хочешь этого, милый мой, и этого, сделай же, сделай, ты можешь, если хочешь, если ты хочешь». – " О Господи, да, я хочу, я сделаю, да, да… О… "
Такие разговоры лучше вести самому, чем читать или подслушивать, поэтому я здесь остановлюсь. Но приходится сказать – и, говоря, я заливаюсь краской, – что Ума постоянно возвращалась к враждебности моей матери, так что это словно бы стало частью возбуждавшего ее ритуала.
– Она ненавидит меня, ненавидит, скажи мне, что с этим делать…
На это я должен был отвечать определенным образом, и, каюсь, весь охваченный желанием, я отвечал, как требовалось: " Трахнуть ее. Трахнуть суку безмозглую ". А Ума: «Как? Милый мой, милый, как?» – « Спереди, сзади, вдоль и поперек „. -“О, ты можешь, мой сладкий, мой единственный, если хочешь, если ты только скажешь, что этого хочешь». – "О Господи, да. Я хочу. Да. О, Господи ".