Она не верила в бессмертие души. Однажды отвечала на вопросы для одного журнала, и там в анкете было: «Что бы вы сказали дьяволу, предложи он вам бессмертие и не потребуй ничего взамен»? — «Понятно, что дьявол всегда нае…т, даже если подчеркнуто ничего не потребует», — сказала она, повернувшись к Нагибину, с остервенением расчесывая волосы крупнозубой деревянной гребенкой, как будто хотела дочесаться до единственно верной догадки. И, посерьезнев, написала: «Я первым делом бы спросила, могу ли я кого-то взять туда с собой. Своих — отца, маму, мужчину. И если нет, нельзя, то нечего там делать, в жизни вечной. И потом, — продолжала она, — если там, за гробом, что-то есть, то в чем же тогда драгоценность, исключительность, единственность всего происходящего с тобой во временном промежутке между вагиной и могилой? Существует представление ортодоксов о земном существовании как о подготовке к некой высшей и истинной жизни. И что же это получается: вот эта моя жизнь — пролог, малозначительная и мне самой не очень интересная преамбула к какому-то подлинному бытию. Если этот кармический круговорот и в самом деле имеет место быть, то, получается, тогда вот эта жизнь, моя, сегодняшняя, здешняя, сейчасная, ничем не лучше и не хуже любой другой из полусотни равнозначных жизней. Тогда вообще как будто обувная лавка получается, уютный холод морга в супермаркете бессмертия: износились одни ботинки — покупаешь другие, новые. Если смерти нет, если эта идея смертности «всего» человека, «целого» почему-то противна природе, то теряется возможность совершать любое дело как первое и последнее. Уходит ответственность за то, что ты делаешь здесь и сейчас. И чем бы человек ни занимался, чем бы он ни жил — не обязательно делать все это образцово. Ведь все настоящее там, а здесь — только тени и прах. И потом, кто сказал, что там все настоящее? Как может быть жизнь настоящей без плоти, без запахов, без осязания, без трения слизистых? Зачем безвкусное, бесцветное немеркнущее вечное сияние твоей развоплощенной, лишенной вкусовых рецепторов и нервных окончаний, бесчувственной души? А как же, извините, клейкие листочки? И что мне там делать, в этой вашей настоящей жизни, если в ней нет ни той щедрой россыпи мелких родинок на руках и футбольных ногах моего комически серьезного Мартына, ни того парома, ни того свинцового неласкового моря, которое ветер и дождь взбивали в омлет словно венчиком, ни одуряющего запаха морского йода, ни того плаща, в который мы тогда с ним завернулись и продели руки, как монахи-рыцари нищенствующего ордена, ни той красивой лаковой коробки из-под кроссовок «Адидас», которую мама принесла на твой день рождения в школу, и там, внутри, лежали штабелями, битком, впритык обсыпанные шоколадной стружкой и распираемые сливками домашние эклеры, хотя ты понимала, что она, твоя мамулечка, уехала далеко-далеко, и этот день рождения пройдет бессмысленно, так глупо и так скучно — без нее».
Да, да, — сказал себе Нагибин, — не надо никакого абстрактного бессмертия, и не то чтобы душа ее не могла умереть, но эти щедро сбрызнутые рыжим солнцем грудь, лопатки, и тот никчемный деревянный стадиончик, на котором «Черный Яр» и «Ленинец» четверть века назад играли в футбол, и тот прорезиненный плащ, и море, и качка с уходящим из-под ног скрипучим полом… — все это не может, не смеет, не должно умереть никогда. Они постараются.
По Блумбергу тянулась нескончаемая бегущая строка, в которой глаз его выхватывал хоть сколь-нибудь интересующие индексы со взмывами зеленых треугольников и обвальным падением красных. Пробежался по парным, прямым и обратным. Шум на пятнадцатиминутном по-прежнему висел тяжелой непроглядной сепией. Предвидя разворот в основании, Григорий Драбкин подбирал фигуры. Лег идеальный молот с нижней тенью вдвое длиннее короткого красного тела. Бычья модель поглощения зеленым длинным телом сожрала предшествующее красное — давление покупателей пересилило давление продавцов. Драбкин выжидал, предчувствуя, что кипящее вещество доллара, как взбесившаяся ртуть в термометре, не удержится в последнем, отведенном Центробанком коридоре, но скакнет за верхнюю отметку не сейчас.
Предчувствия его не подводили, как не подводит нюх лесного зверя. Нефтеносные свои активы он скинул десять месяцев назад, когда маслянистая черная жижа торговалась по сто семьдесят долларов за баррель; через три минуты после совершенной Гришей сделки началось неумолимое сползание цены. Подобные операции за секунду до закрытия сессии всегда дарили Драбкину такое напряжение, такое острое блаженство, в сравнении с которым самый мощный человеческий оргазм был бедным удовольствием простейших, землетрясением для микробов и бактерий, щекоткой для слона. Но только не сейчас. Сейчас была невероятная апатия, усталость мысли, как будто атрофия интеллектуальных мускулов — как там вчера, по радио, сказали про алкоголизм? Сто миллионов умерщвленных клеток мозга наутро после заурядного запоя выводятся вместе с мочой — как будто в самом деле расплата за его всегдашнюю чудовищную власть над мировой финансовой гармонией. (А, впрочем, много ли он знал о человеческих оргазмах и уж тем более о том, что им предшествует? Он, завсегдатай сексуального бистро, не обращающий внимания на лица официанток? Он, преимущественно приглашавший платных цыпок, и это было как медицинская процедура с применением бездушных вакуумных присосок и не более одухотворенного пневматического насоса?)
В детстве и отрочестве Драбкин питался задачами — сперва из развивающих «веселых математик», затем из сборников для поступающих на физико-технические факультеты знаменитых вузов; однажды поразившись — в третьем классе — причудливому поведению чисел (которые то разрастались в безразмерно-многозначного, пошедшего нулями, словно волдырями, монстра, то погружались в инобытие какой-нибудь минусовой дичайшей степени, вольготно обитая по ту сторону нуля), не мог уже остановиться; все дальше и дальше, все выше и выше забиралась его пытливая мысль, сладострастно замиравшая на том краю, за которым сходили с ума все земные расстояния, скорости и линии. Учился он при этом с первых классов средне, прозябая в болоте перманентной «удовлетворительности», и никаких особенных способностей ни в чем не проявлял, читал не бегло и считал не быстро; со временем, поближе к старшим классам, вышел в «хорошисты» — усердный и дисциплинированный, идущий ровно «по программе» школьник с благонадежной умеренностью в каждом негромком и четком ответе, и только.
Сейчас он мог сказать бы, что главной и, наверное, единственной причиной его начальных школьных неудач была врожденная, доставшаяся по наследству от мамы близорукость, о которой он довольно долго не осмеливался заявить: меловые цифры, по-учительски красивые петли стройных букв на черной доске — сидел он на последней парте — перед глазами расплывались, и от этой зрительной беспомощности становился непонятнее, глуше голос классной их руководительницы; так продолжалось до тех пор, пока однажды мама не отвела его к врачу и оттопыренные уши Драбкина навечно схватились дужками очков. Да нет, не в этом, все-таки не только в этом было дело. Просто тот чудесный, полный волшебных превращений мир «веселой математики», в который Драбкин опрометью погружался по вечерам выходных, и регулярные занятия по той же математике за школьной партой в его сознании никак не связывались.
Велик соблазн (в сознании посторонних) представить Драбкина-подростка уже готовым вундеркиндом, который с малых лет знал только страсть к подсчету и расчету (холодное, студенистое сердце; мозги как шестеренки швейцарских IWC Schaffhausen). Велик соблазн представить Гришу тихим, самоуглубленным гением, который с малолетства встал на путь истинный и неуклонно, ни на что на свете не взирая, шел по этому пути, — захваченный в биологические тиски предназначения — навстречу своему грядущему обогащению и баснословной власти. Но сам Григорий Драбкин поручиться был готов, что ничего такого за собой не только не ощущал, не числил, но и вообще не понимал, а чем таким он примечателен и в чем его особость, личность, самость. Да, он блаженно, ненасытно упивался на диванчике открывшейся ему в задачнике свободой, но это чистое блаженство как будто не имело цели, кроме самого себя, не простиралось за пределы лопоухой драбкинской головки, не распространялось на весь огромный внешний мир, который жил по собственным законам (конкретных денег, которых постоянно было мало, конкретных вещей, которых постоянно было столько же, конкретного неукоснительного послушания учителям и взрослым, которые гораздо лучше разбирались в деньгах, вещах и в том, как их между людьми распределяют)
Абстрактная гармония математического волшебства не развивалась, не переходила в законную, естественную грезу о верном, беззаветном служении науке, о будущих великих — ну, хотя бы значительных открытиях, и Драбкин, сколь ни силился, сколь ни подстегивал воображение, не мог увидеть себя в будущем конструктором, ученым, изобретателем ракет или андронного коллайдера. Там было тесно, скучно, пахло греющейся пылью, тяжелым йодом электричества, пренеприятной вонью свежего припоя, паленой проволокой между конденсаторными полюсами. Возможно, эти запахи и станут в будущем для Драбкина — потенциального сотрудника НИИ — единственной реальностью, но чтобы он всерьез хотел туда и в этом видел собственную самость — нет, не хотел, не видел.
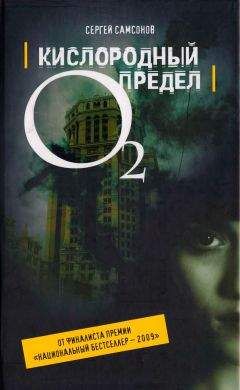


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

